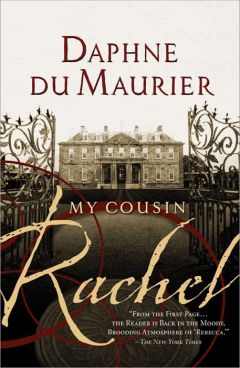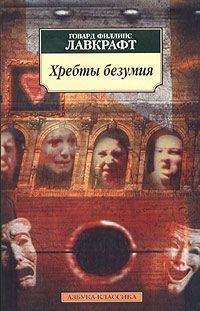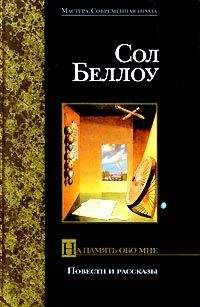Говард Лавкрафт - Хребты безумия (сборник)
В ту ночь ветры неизведанных пространств неудержимо несли нас к безграничному вакууму за пределами мыслимого. Особые непередаваемые ощущения вызывали в нас безграничный восторг, но сейчас они почти стерлись из моей памяти, а то, что осталось, пересказать почти невозможно. Вязкие облака проносились мимо одно за другим, и наконец я почувствовал, что мы достигли области столь далекой, в какой не бывали никогда прежде.
Мой друг был далеко впереди, но, несмотря на это, когда мы нырнули в удивительный океан первозданного эфира, я заметил мрачное ликование, которым светилось его удивительно юное лицо. Вдруг его очертания исчезли, и в то же время я почувствовал, что оказался перед препятствием, которое не могу преодолеть. Оно было подобно тем, какие мне уже встречались, но оказалось неизмеримо плотнее; нечто вязкое и клейкое, если вообще возможно применять подобные описания свойств нематериального мира.
Барьер, остановивший меня, мой друг и наставник преодолел без труда. Новая попытка прорваться привела к тому, что я пробудился от наркотического сна и, открыв глаза, увидел мастерскую в башне и бледное все еще бесчувственное тело моего спутника напротив, мраморные очертания его лица, невероятно изможденного, невыразимо прекрасного в золотистом лунном свете.
Вскоре тело в углу пошевелилось, и да хранят меня небеса от того, чтобы еще когда-либо увидеть или услышать подобное. Я не способен описать его крики и жуткие видения ада, отражавшиеся в его черных, обезумевших от страха глазах. Могу сказать лишь, что упал без чувств и пришел в себя лишь тогда, когда он, очнувшись, принялся меня трясти, желая избавиться от страха и одиночества.
Так завершились наши добровольные погружения в глубины грез. Упавший духом и вздрагивающий от дурных предчувствий, мой друг предостерег меня от возможных новых попыток исследования той области, где мы побывали. Он не решился рассказать, что именно там увидел, однако исходя из своего жизненного опыта решил, что нам теперь следует как можно меньше спать, даже если для этого придется использовать сильнодействующие лекарства. Довольно скоро я убедился в его правоте: невыразимый страх охватывал меня всякий раз, как только мною овладевал сон.
После каждого даже самого краткого и непродолжительного сна мне казалось, что я постарел, а мой друг дряхлел с пугающей быстротой. Было ужасным замечать, как на нем появляются морщины и седеют волосы. Наш образ жизни изменился полностью. Мой друг, прежде всегда бывший затворником – он даже не сообщил свое настоящее имя и откуда родом, – теперь панически боялся одиночества. По ночам он остерегался оставаться один, и даже компания в несколько человек его не успокаивала. Отрадой ему стали разнообразные шумные сборища и неистовые пирушки; немноголюдные мужские встречи нас не устраивали.
В большинстве случаев мы внешностью и возрастом настолько не соответствовали окружению, что это вызывало насмешки, и меня это больно ранило, но мой друг считал это меньшим злом, чем одиночество. Особенно опасался он оказываться под открытым небом, и когда такое случалось, то невольно часто боязливо посматривал вверх, будто за ним охотилось что-то чудовищное. Посматривал он не в какую-то определенную сторону – я заметил, что направление этих взглядов в разное время разное. Весенними вечерами он бросал взгляды на северо-восток. Летом он украдкой смотрел куда-то почти над головой. Осенью поглядывал на северо-запад. Зимой его осторожное внимание привлекала восточная часть небосклона, но только в предутренние часы.
Наиболее спокойным он казался зимними вечерами. Лишь по прошествии двух лет я понял, что этот страх связан с каким-то вполне конкретным местом; тогда я стал замечать, что поглядывает он всегда на одну и ту же точку звездного неба, где-то в области созвездия Северной Короны.
В то время мы занимали небольшую мастерскую в Лондоне, по-прежнему оставаясь неразлучными, но избегая разговоров о тех днях, когда пытались проникнуть в тайны нереального мира. Лекарственные препараты, беспорядочный образ жизни и нервное переутомление довольно заметно состарили нас, редеющие волосы и борода моего друга стали белыми как снег. Несмотря на это, мы умудрялись обходиться без долгого сна и крайне редко уделяли более одного-двух часов подряд на то беспамятство, что превратилось для нас в ужасную угрозу.
Наконец, в туманном и дождливом январе, наступил тот день, когда деньги у нас закончились и не на что было приобрести необходимые медицинские препараты. Я уже продал все свои статуи и резные головы из слоновой кости и не имел ни малейшего желания доставать материал и работать над новыми скульптурами. Положение наше было ужасным, и однажды ночью мой друг впал в странный тяжелый сон, из которого мне никак не удавалось его пробудить. Я и сейчас прекрасно помню эту сцену: запущенная мрачная каморка на чердаке, под самой крышей, по которой беспрерывно стучит дождь; мерно тикают настольные часы; воображаемо тикают карманные часы на туалетном столике; скрипят ставни в какой-то отдаленной части дома; звуки города, приглушенные туманом и расстоянием; но самое страшное – размеренное, глубокое, зловещее дыхание моего друга, ритмично отмеряющее мгновения сверхъестественного страха и агонии духа, блуждающего в невообразимых, немыслимо удаленных запретных сферах.
Напряжение моего бдения становилось невыносимым, дикая вереница мимолетных впечатлений и ассоциаций проносилась в моем слегка помутившемся сознании. Я услышал донесшийся откуда-то бой часов – наши часы этого не умели, – и моя возбужденная фантазия приняла его за отправную точку. Часы… время… пространство… безграничность… и затем мои мысли вернулись к настоящему, и, несмотря на туман и дождь, я вдруг ощутил, как на северо-востоке Северная Корона восходит над горизонтом. Созвездие, которого так опасался мой друг, нависает сверкающим полукольцом и простирает свои лучи сквозь неизмеримые бездны эфира. Вдруг мои уши уловили новый звук, прекрасно различимый сквозь общий шумовой фон – низкий монотонный вой, доносящийся издалека; жалобный, протяжный, насмешливый зов откуда-то с северо-востока.
Но не этот отдаленный вой лишил меня чувств и оставил на моей душе печать страха, от которой мне уже никогда не избавиться; не из-за него я так кричал и дергался в конвульсиях, что соседям и полиции пришлось выломать дверь. Дело было не в том, что я услышал, а в том, что увидел; ибо в темной, запертой и зашторенной комнате появился луч зловещего красно-золотистого света из северо-восточного угла – луч, который не рассеивал тьму вокруг, а подсвечивал только голову спящего, раздваивая видение его лица, так что я увидел светящееся и странно помолодевшее лицо моего друга, такое, каким я помнил его во время наших совместных блужданий по безднам пространства и раскрепощенного времени, когда он преодолел барьер и проник в тайную, самую сокровенную и запретную область ночных кошмаров.
Пока я в изумлении смотрел на это, голова приподнялась, черные, глубоко запавшие влажные глаза в ужасе раскрылись, а на тонких, бледных губах застыл крик, настолько пропитанный страхом, что не мог воплотиться в звуке. В этом мертвенно-бледном лице, сияющем и молодом, столь хорошо знакомом мне, я видел, что моего друга затопляет могучий, разрушающий мозг страх, не сравнимый ни с чем ни на земле, ни на небе.
Мы оба не произнесли ни слова, тогда как далекий вой нарастал, становясь все ближе и ближе; когда же я проследил за взглядом обезумевших глаз и лишь на миг увидел открывшееся ему – то, от чего шел звук и где начинался проклятый луч, – со мной случился сильнейший припадок эпилепсии, сопровождаемый криками, перебудившими всех соседей и заставившими их вызвать полицию. Я не раз пробовал, но мне не удается описать, что именно мне довелось там увидеть, а на застывшем лице моего несчастного друга, видевшего гораздо больше меня, уже ничто не прочтешь. Но с тех пор я стараюсь больше не поддаваться коварному и ненасытному Гипносу, повелителю снов, а также избегаю ночного неба, безумной жажды познания и философии.
Невозможно разобраться, что же все-таки случилось в ту ночь, ибо не только моего сознания коснулась ужасная тень, но и все окружающие вдруг стали проявлять забывчивость, более похожую на безумие. В один голос они утверждают, будто у меня вообще не было никакого друга, и только искусство, философия и безумие заполняли мою трагическую жизнь. Той ночью соседи и полиция пытались утешить меня и даже вызвали доктора, который дал что-то успокоительное, но никто из них не поверил в увиденный мною кошмар. Участь моего несчастного друга не вызвала у них жалости, тогда как обнаруженное на кушетке в углу мастерской привело к восхвалениям, вызвавшим у меня отвращение, и принесло мне ту славу, которую я отвергаю в отчаянии и провожу многие часы, беспомощный и одуревший от лекарств, лысый, седобородый старик, молитвенно взывающий к обожаемому найденному ими предмету.