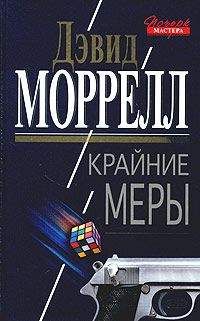Елена Сулима - Опоенные смертью
— Но у меня вызов к мальчику. Травма головы.
— К какому ещё мальчику?! — нытье Леопольдовны резко сменилось высокомерным тоном. — Вы ко мне. Я — больная!
— Любовь Леопольдовна, у Дани травма. Его зверски избили.
— У какого ещё Дани? Сначала посмотрите меня, а потом уже Даню! ловко вскочила с колен и загородила проход Любовь Леопольдовна. — Вы доктор — вы обязаны посмотреть больную!
— Но ваш внук сейчас может умереть! — опешив, воскликнула женшина-врач.
— Какой ещё внук?! Не знаю я никакого внука. Вот уж нет, милочка! Никуда я вас от себя не отпущу. Ах! — и словно падая в обморок, рухнула в сторону врача. На пол полете, спасая маньячку-свекровь, Алина удержала Любовь Леопольдовну. И, кинувшись между ней и врачом, — получила приглушенный удар "карате", и отлетела со своим невменяемым сокровищем в конец коридора.
— Извините, — врач скромно потупила глаза. — Сработала профессиональная привычка.
— Вас, что, этому в медицинском институте учат? — удивленно проговорила Алина
— Жизнь мой тренер.
— Вы не правильный пример подаете ребенку! Вы сначала должны осмотреть меня. По старшинству! Он должен уступить мне место! — вопила уроненная на пол Любовь Леопольдовна. — Да-а-ня! Я позвоню куда надо, и тебя лишат пионерского галстука!
Тем временем врач поставила предположительный диагноз: тяжелое сотрясение мозга. Возможно внутреннее кровоизлияние. Срочная госпитализация.
Медленно, поддерживаемый под руку Алиной, Даня проходил по коридору.
— Он знает, кто его избил? — спросила врач.
— Да, — ответила Алина сквозь ком в горле.
— Надо заявить в милицию. За это надо сажать.
— Не надо! Они все сами поймут. Нельзя! — еле шептал Даня.
— Ладно, ладно. Не волнуйся. Потом разберемся.
— Доктор! Доктор! Поднимите меня! Что ж я здесь так сижу! Я напишу об этом в "Пионерскую правду"!
ГЛАВА 13
Голосовать такси в такую ночь, — ветряную, жестокую ночь, глотая слезы, находясь в полном смятении от жалости и страха — небезопасно. Слабость притягивает насилие. Одинокий сутулый женский силуэт привлекает маньяков.
Алина ехала последним поездом метро домой, прижимая к груди вещи племянника, завернутые в куртку, и слезы катились по её неподвижному лицу. Склизкий тип подсел рядом:
— Тебя кто обидел? — пропел он келейно. — Расскажи мне все. Можешь мне рассказать. Только я тебя и пожалею… — и его бледные пальцы скользнули по её коленке.
Ее передернуло от отвращения.
"Господи, сколько ловушек, капканов, расставлено на женском пути! Сколько тихого, якобы ненавязчивого зла, основанного на первобытных животных притязаниях! Как будто бы смешались вдруг два века сознаний: каменный, первобытно-животный и современный мир. Но не поставить между этими мирами непроходимого барьера. Диффузия. Ни то — ни се — в итоге". И слезы тихо стекали по щекам. И горе горбило.
Муж пришел домой чуть раньше её. Он даже не успел переодеться.
— Что случилось, — подлетел он к ней. — Где ты была?! Почему ты плакала?! Что с тобою?! Я думал — вы спите. Что с мамой?! Что с ней случилось?! Зачем ей Данькин пионерский галстук? Какой ещё галстук в наше время?
— Дай ей какою-нибудь красную тряпку, — пусть успокоится.
— Пионер всем должен подавать пример! — кричала Любовь Леопольдовна с постели, — Я буду жаловаться!
— Некуда тебе жаловаться, зюгановка чертова. — Вдруг взревел Кирилл, Кончилась твоя власть. Белые в городе! И вообще, я могу хоть раз спокойно отдохнуть в этом доме?!
— Я письмо напишу! — донеслось в ответ, — Как ты смеешь разговаривать так со своей мамочкой, сынок! Напишу, вот увидишь!
— Пиши. Так и быть — отнесу его в мавзолей.
— Да прекрати же ты. Даня в реанимации. Его избили!
— Кто?! Ты звонила сестре?!
— Алечка! Алечка! Как хорошо, что вы пришли! Я же проголодалась!
— Подождите, Любовь Леопольдовна. Ужин ещё не готов, — крикнула Аля из кухни.
— Ты звонила сестре?!
— Да успокойся, звонила. Она, наверное, уже там.
Вдруг на пороге кухни беззвучно, словно привидение, застыла Любовь Леопольдовна в белой ночной сорочке:
— Алечка, я не буду писать в газету. Я осознала свои ошибки. Я поняла, что вы меня за это без ужина оставили. Сварите мне хоть яичко!
— Спать! — взвыл Кирилл и, схватив её на руки, понес к постели.
— Я хочу заявить официально, что после того, как мой сын женился, он стал преступно холоден к своей матери! А-а-алечка! — кричала Любовь Леопольдовна.
Алина поставила варить яйцо.
— Что сказала сестра?
— Ну, что она могла сказать?
— Она обвиняла?! Говорила, что не уследили?!
— Господи, о чем ты говоришь, — отрешенно прошептала Алина.
— Аля! Где мое яичко?
Алина ополоснула сварившееся яйцо холодной водой и сбегала — отнесла его свекрови.
— Это же не мы виноваты! Не мы! Зачем он ей понадобился?! А теперь…
— Заткнись! — вдруг разразилась она смертельным хрипом придавленной кошки. — Надоело! Что ты здесь из себя изображаешь?! Да тебе… на самом деле, на все наплевать!
— Мне плевать! Это почему же — мне плевать?
— Где ты был до часу ночи?
— Не с ней! Никакой женщины около меня не было! Я был…
— А хоть бы и… в бильярдной.
— Но я же!.. Деньги…
— Не все решается в этой жизни деньгами! Поэтому, прошу прекратить эти крики в два часа ночи. Противно!
— Кричишь сейчас ты, а не я.
Алина откинулась затылком к стене и уставилась в потолок. Прекратить. Хватит, надо прекратить этот безобразный скандал.
Дверь в кухню открылась, словно от сквозняка и, замаячив на пороге, Любовь Леопольдовна, со скудную слезой в глазу, взмолила: — Алечка, вы что, разводитесь? Можно я, после развода, останусь с вами? Я дам свои показания на суде. Сынок-то мой совсем от рук отбился.
— Спать! — взревел Кирилл, как пьяный прапорщик, и поволок "показательницу" по коридору в постель.
— Не трогай! — еле отбила её Аля. — Что ты с ней все время выясняешь отношения? Ты что, полоумный?! И вообще… я не могу больше так! Убирайся из дома, хватит! А твоя мама пусть здесь остается. Хватит!
— Нет уж, дорогая, если я уйду, то и маму с собой заберу!
— А я не отдам её, не отдам…
— Нет уж, я заберу.
— А я не отдам.
— Отдашь, как миленькая, потому что мама — не твоя, а моя.
— Ах, господи, вспомнил! Пошел к черту, подлец, — голос её сорвался на шепот.
Он увидел её окаменевшее лицо: не гнев, а мраморное равнодушие излучало оно. Схватил "дипломат" и выбежал из кухни.
Алина осела на корточки по стене. Хлопнула входная дверь. Значит, он ушел. Так и не спросил, в какой больнице лежит его племянник…
Шорох ветра заставил её поднять голову с колен. На пороге кухни колыхался останок человеческой жизни.
— Алечка! За что он у меня отнял яичко?
— Отомстил! Отомстил! Отомстил! — упершись лбом в стену, взвыла Алина
И онемело почувствовала, как шевельнулись корни волос на голове. И седина, мгновенная седина блеснула тонкой змейкой по вискам.
ГЛАВА 14
Сколько же может переживать человек?! Если какой-нибудь установленный предел? И что самое страшное — не глобальные катастрофы изнашивают его, а мелкие житейские гадости, конвульсии прохожих характеров, с которыми сталкиваешься на каждом шагу.
Она вышла из больницы. Бесслезным, бессловесным криком ужаса матерей немым кино — познанное там крутилось в голове. Вот девочка с проломленным о батарею черепом. Носилась с девчонками по переменному залу, мимо бежали мальчишки, толкнули… Это ж — с какой силой надо толкнуть, чтобы о батарею раскололся череп! У матери её карие глаза и белые, как у наяды, волосы. Казалось, она только что поседела от горя. А дальше… нет! Лучше не помнить. Дети, выпавшие из окон, мальчик, баловавшийся с лифтом и расплющенный им… Мать, полгода спящая на полу у постели ничего не осознающего ребенка. Одета чисто, но во все какое-то допотопное, а манеры светской женщины. Работу бросила, муж её бросил, все продала. На все готова, чтобы вытянуть чадо. Ребенок её уже год не узнает, а она не теряет надежды.
Алина села на доску, вставленную в распор между двух мощных стволов старых тополей, и закурила.
Алина просто смотрела на засохший репейник. Скользила взглядом по его изгибам, и, казались, его серые разветвления натруженными сухожилиями, когда живешь в меру, потому что из последних сил, но живешь и трудишься над тягой оторваться от земли, ни за что не поникнуть… И подумала: — "Я так же высохла внутри, моя душа — сплошные сухожилья воли. Сколько так ещё протяну? Поживу ещё полгодика — и все. И ничего от меня не останется. Ничего. А кто я, чтобы от меня что-то оставалось? Зачем заполнять своим хламом этот мир?..