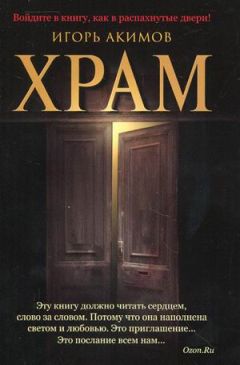Игорь Акимов - Храм
После университета ему стало трудно говорить с ней. Теперь в разговоре с ней ему приходилось контролировать каждую свою фразу. Он сознательно адаптировал себя, стараясь подстроиться к ней, а она это видела — умная ведь баба. Вначале это ее смешило, а потом стало раздражать. Иногда ему даже казалось, что теперь она его за это презирает. Повернуться и уйти — если б он только мог!..
— А ты ничего не делай. И ничего не говори, — сказала Мария. — Так будет лучше.
— Кому лучше? Ведь я не могу держать это в себе! Ты хочешь, чтоб я сидел, сложа руки, и покорно смотрел, как ломается наша жизнь?
— Смотреть не на что, Илюша. Она давно уже сломана. Она развалилась на два куска, и склеить их нечем.
Волосы были уже расчесаны, но Мария снова и снова погружала в них гребень и вела им по всей длине медленно-медленно. Прежде у нее не было этой привычки, отметил Илья. Своеобразная медитация. Паллиатив молитвы. Вот в чем ужас: она это делает естественно, а я препарирую и вместо живого чувства получаю бесполезную информацию.
Мария в зеркале взглянула на него.
— Так что же случилось, Илюша?
— Тяжело на душе… Места себе не нахожу… Ночью приснилась мама, попросила помочь ей собрать вещи… — Вот это — правильные слова. Понятные ей. Сближающие с ней. — Я бы сказал — это не страх, а опасение… Что-то появилось в воздухе… или во мне… Я еще не понял — что это… — Илья барахтался в словах, искал, искал, но не было такого, которое могло бы пробиться к ее душе. — Ты же знаешь, какая у меня интуиция. Мне не обязательно видеть опасность. Она еще только где-то сгущается — а я уже здесь, — он ткнул указательным пальцем себе в темя, — эпифизом ее ощущаю.
— Тогда не испытывай судьбу — уезжай. Скройся. Купи себе виллу на каком-нибудь греческом острове — ты ведь столько мечтал об этом! — и живи там спокойно хоть всю жизнь. Денег, слава Богу, хватит, — награбил их выше горла.
Она это сказала без злобы и иронии, просто сказала. Можно было и не отвечать — ведь не об этом шла речь. Но у Ильи сорвалось:
— Я не грабитель. Я экспроприатор.
— Да называй себя, как хочешь. Мне-то что? Твоя совесть — твоя забота.
Илья подошел к ней, обнял сзади — и словно погрузился в нее. Она не противилась, не зажалась, но ее тело ничем ему не ответило. Мыслями она была где-то в другом месте.
— Послушай, Маша… Ну давай сделаем попытку — уедем вместе. Ведь тебе необходима пауза. Отдых. Может быть, новые впечатления — это как раз то, что станет для тебя эликсиром. Ведь пока не попробуешь, не узнаешь. Совсем иной мир, другие люди…
Мария высвободилась из его рук.
— Опять ты за свое…
— Так ведь надо же что-то делать! Нельзя же так жить!
— А я и не живу. Я умерла вместе с моим сыночком. — Ее глаза наполнились теплом. — Не тереби ты меня, ради Бога. Я ухаживаю за его могилкой, и жду — ты же знаешь — лишь одного: чтоб меня положили в землю рядом с ним.
Илья застонал.
— Ну как!.. как мне к тебе пробиться? Как втолковать, что клин клином вышибают? Ты только согласись! — я тебе таких мальчишек настрогаю…
Он почувствовал, что сейчас расплачется, но не собирался прятать этих слез. Жаль только, что такие слезы смертельны для отношения женщины к мужчине.
Боковым зрением он уловил движение за окном, резко повернулся — и перевел дух: это был всего лишь председатель сельсовета. Илья разозлился не столько на него, сколько на себя: пуглив стал не по делу.
— А, черт! Старосту нелегкая принесла. Опять что-нибудь просить будет.
Председатель заглянул в окно, заслоняясь ладонью от солнечных бликов на стекле, разглядел, что Мария машет — мол, заходи, — постучал сапогами на крыльце, сбивая снег, и вошел в горницу улыбчивый и уютный. От кожушка он избавился еще в сенях; теперь на нем был серый залоснившийся пиджачок, тесноватый ему в плечах, зато в лацкан были тяжело впечатаны две «Красных звезды».
— Здорово, молодята!
В его глазах просверкнула искра иронии, замеченная, скорее всего, только им самим, и все же из предосторожности председатель тут же ее раздавил. И уселся за стол с радостным видом деревенского хитрована-дурочка. Его превосходство было достаточно велико, чтобы позволить себе эту беспроигрышную роль.
— Как я вам рада, дядько Йосип! — Мария посветлела — сперва лицом, потом вся. Невидимая мгла, наполнявшая комнату, как табачный дым, теперь рвалась и таяла, уползая в углы. — Может — согреетесь с морозцу?
— У тебя, Мария, самограй знаменитый. Не откажусь. — Он достал пачку краснодарского «мальборо» и протянул Илье. — Ты еще не стал смолить?
— Пока не с чего.
— Дай Бог, дай Бог… — Председатель закурил и выдержал паузу, давая Илье время смириться с ситуацией. — Ты не серчай, командир, я бы не врывался нахалом, попозже бы зашел. Да вижу — Ванька движок гоняет, надо понимать — ты наскоро. А у меня к тебе дело.
Он откинулся на спинку скрипнувшего стула и стал с удовольствием наблюдать, как Мария заполняет стол снедью. Сулея с прозрачным самогоном, в котором, как в аквариуме, жили листья зверобоя и мелиссы, красовалась точно в центре, а вокруг нее — нет, не по кругу, а вроде бы по спирали, в раскрутку, — появлялись глиняные миски. С квашеной капустой, с солеными помидорами (тугие, аккуратные красные бомбончики, пересыпанные укропом и дольками налитого рассолом чеснока), с дымящейся (прямо из печи!) картошкой в мундирах, с маринованными огурцами. Дух был такой, что сердце переворачивалось.
— Мария, а огурчики-то выдерживала на хрене?
— И на хрене, и на смородиновом листе, и на виноградном.
Колбаса была светлая, без крови; сало на липовой дощечке тускло отсвечивало крупной солью. Они утяжелили палитру ароматов, но когда Мария стала резать, прижимая ее к груди, толстыми ломтями паляницу — ее запах восстановил нарушенное равновесие.
— Это ли не рай?!
Председатель налил в два стакана, жестом пригласил Илью. Тот сел напротив — прямой и жесткий, потому что должен был контролировать себя, чтобы досада не выродилась в злость. Вот этого он позволить себе никак не мог. Это знали оба, и оттого досада распухала в Илье, как тесто, расползалась, заливая каждый закуток души, и отвердевала в них, словно собиралась поселиться в душе навсегда.
Председатель выпил самогон медленно, с наслаждением, не дыша. Поставил стакан — и еще несколько мгновений сидел с восторгом в глазах, а потом с таким же восторгом, расхваливая хозяйку, навалился на закуски. Илья выпил — как воду; отставил стакан — и ждал.
— Видишь ли… — сказал председатель, срезая тончайший кусочек сала, попробовал его одними губами, удовлетворенно хмыкнул, разжевал — и весело взглянул на Илью. — Рекомендую. Поэма. Чем кормишь — то и ешь. — Он придвинул к себе дощечку с салом и стал счищать ножом соль. — На твою долю отрезать?
Илья отрицательно качнул головой.
— Так вот… Какое было лето — сам знаешь. Корму запасли мало, трава — как проволока… А нынешней ночью и вовсе беда пришла: буря разметала два самых больших стога, да так, что и собирать нечего. — Председатель отрезал себе сало, положил на ломоть хлеба, но есть не стал. Опустил руки на колени и с неожиданной тоской в глазах посмотрел в окно. Потом опять взглянул на Илью. — До первой травы не дотянем. Покупать корма — таких денег у громады нет. Боюсь, скоро коровенки под нож пойдут…
— Понятно. — Илья произнес это врастяжку. И даже с ноткой брезгливости. Ну ничего он не мог с собой поделать!.. — Чего сопли размазываешь? Сказал бы прямо: нужны деньги.
— Нужны. Да деньги у тебя не те, чтоб их брать в долг.
— Не смеши, староста. Какой долг? — Досаду из души у Ильи словно сквозняком выдуло. Вот в чем спасение его души — в иронии. «Ирония и жалость» — вспомнил он любимого классика. Спасение и утешение. — У тебя такое замечательное зрение, что ты видишь свет в конце твоего тоннеля? А там — денежки лежат?.. Да никогда их у вас не будет! А и появились бы — все равно б вы их мне не вернули.
— Это верно.
— Так что говори, сколько надо, бери — и не кочевряжься.
— За предложение — спасибо, — спокойно сказал председатель. — Но у меня другой план. — Он взял двумя руками сулею с самогоном, посмотрел сквозь нее на свет, пробормотал: «Лепота. Кабы еще и рыбки здесь плавали…» — и налил в оба стакана. — Если коротко — хочу разжиться зерном в Забещанском элеваторе.
Илья расхохотался и на этот раз легко взял свой стакан.
— Да ты никак хочешь его грабануть?
— Самую малость. Три «камаза» — лишнего нам не надо.
— Замашки у тебя сохранились большевистские.
— А вот это не твоя печаль, командир.
— Как же не моя? Грабить будешь ты, а валить собираешься на меня…
— Тебе что, — миролюбиво рассудил председатель, — семь бед — один ответ. И дураку ясно: элеватор — не банк; значит — не для себя этот грех на душу берешь. Для людей. Твоя репутация народного заступника только укрепится.