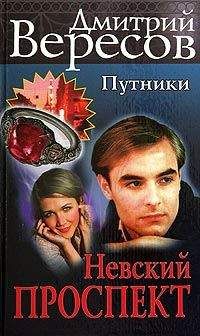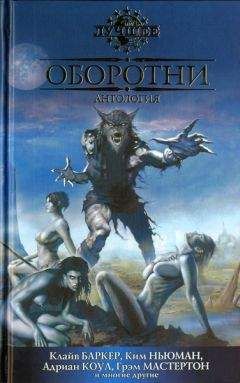Александр Кабаков - Подход Кристаповича (Три главы из романа)
— Ну что ж, одевайтесь.
Мишка увидел, как при этом Фред сжал в кармане пальто пистолет, как напряглись кулаки и в карманах остальных. Но вмешательства не потребовалось.
Человек встал, бритая голова двигалась на вдруг ставшей тонкой в распахнутом вороте рубашки шее, глаза ползли в стороны, рука легла на скатерть, дернулась — и в следующее мгновение негромкий хлопок слегка сотряс воздух этой комнаты, где каждая дощечка паркета была знакома Мишке до последней трещинки, где, может, и до сих пор валялся за диваном оловянный солдатик в буденовке с облезлой звездой…
Когда они выходили, человека в подъезде уже не было.
— Боятся смотреть, как начальство за жопу берут, — сказал Фред. Это были последние слова, которые Кристапович от него услышал.
Возле «опеля» стоял Колька. Фред покосился на него недовольно, Самохвалов ответил на взгляд:
— Долго вы очень, я уже психовать стал, хотел сам идти…
Двое бандитов уже сидели в машине, Фред хмуро полез за непривычную баранку. Мишка с Колькой вдоль стены уходили к малолитражке, навстречу, не слишком торопясь, но и не мешкая, шел мэтр.
— Где остановимся для беседы? — спросил он на ходу.
— Мы покажем, — так же, не замедляя шага, ответил Михаил, — поедете за нами, встанем, где поспокойнее…
Словно и не было суток — снова поблескивало мокрое шоссе, снова взревывал мотор на подъемах, только мощный «опель» теперь шел сзади, раздраженно рыча на малых оборотах, а Мишка горбился за рулем паршивой блатной тарахтелки… Повернули на Дмитров — мост должен был появиться километра через полтора. Кристапович прижал газ так — казалось, сейчас проломится пол бедной машинешки. «Опель» шел сзади как привязанный — вроде бы опасаться мэтру было нечего, наволочка лежала, небось у него на коленях, но держались на всякий случай к Мишке поближе — опасались, видимо, сами не понимания, чего, и из-за этого еще больше опасались, и Фред все ближе прижимался высоким домиком хромированного опелевского носа к обшарпанному задку с давно снятым запасным колесом — может, просто прощался со своим верным «кимом»…
Мост возник в тумане сразу. Мишка, напрягшись, всей силой придавил тормоз, сосчитал «ноль-раз», отпустил тормоз и резко газанул, малолитражка, на полсекунды застыв перед вылупленными Фредовыми глазами, прыгнула вперед, и сразу за мостом Михаил развернул ее поперек долги. «Опель» дергался, было видно страшное лицо мэтра за стеклом, а Мишка уже пер им навстречу, парализуя своим явным безумием, стараясь держать правыми колесами обочину, чтобы успеть вильнуть, если Фред не успеет, но Фред успел, кривя распахнутый в неслышном крике рот, крутнул баранку, и тяжелое черное тело, проломив ограду, длинным как бы прыжком ушло в мутную воду и снова будто прошлая ночь надвинулась на Мишку.
— Ни машины, ни монеты, — сказала сзади Файка. Мишка молча вытащил из-под ног чемодан-балетку, бросил назад — услышал, как замок щелкнул и посыпались бумажные пачки, и одна сторублевка голубем перепорхнула на правое переднее сиденье. Колька кашлянул, поперхнулся, зашелся хрипом и матом. От воды шел туман.
— Провалились-таки тормоза, — хрипел Колька сквозь кашель, провалились, мать их в дых, ну, Мишка, Капитан Немо! И денежки взял…
— А я их и не отдавал, вы забыли, дураки, — сказал Мишка. Он сидел, опираясь на руль, его опять познабливало и тошнило, косое зеркало, рога и кожаный сундук в прихожей плыли к нему в тумане, поднимающемся от воды…
И ни он, ни Колька не увидели ползущего от берега Фреда с мокрой головой, по которой кровь текла, смешиваясь с какой-то речной грязью, и лишь когда разлетелось заднее стекло малолитражки, они оглянулись и увидели сразу все — ткнувшегося без сил в берег уже мертвого стилягу с проломленным черепом и сползающую по заднему сиденью, отвалившись в сторону от Кольки, красавицу-татарку с уже остановившимися синими глазами, все больше скрывающимися под неудержимо льющейся из-под коротких завитков кровью…
Потом была зима. Кристапович жил у Кольки, на стройку ездил электричкой. В феврале поехали на Бауманскую, купили «победу» на Колькино имя. А весной кое-что всплыло на подмосковных реках, да той весной много чего всплыло, а еще больше — летом… К сентябрю же Колька женился — на какой-то штукатурше из Ярославля, ремонтировавшей министерство, которое он по-прежнему охранял.
И Кристаповичу пришлось всерьез подумать о жилье — тем более, что летом умерла Нинка — за каких-то два месяца сожрал ее рак — женское что-то, вроде.
3. ВАМ ОТКАЗАНО ОКОНЧАТЕЛЬНО
Вечерами он сидел на своем низком балконе — малогабаритный второй этаж, — прислушиваясь к надвигающемуся приступу. По старому рецепту закуривал папиросу с астматолом — где-то по своим хитрым каналам доставал Колька — хрипел, успокаивался, рассматривал скрывающийся в сизом воздухе свой двор, даже не двор, а так, проезд между хрущевским пятиэтажками. Сняв очки, чтобы лучше видеть вдаль, наблюдал за одной соседкой, из примыкающей к его дому девятиэтажной башни. Крупная, очкастая, плохо и невнимательно одетая, в кривоватых туфлях на огромных ступнях, она была удивительно похожа на его мать, и он вспоминал ледяные довоенные зимы, проклятые годы, и письмо соседки из эвакуации, которое он прочел на переформировании в Троицке. «Мамаша ваша умерла сыпняком… аттестат нигде не нашли, так что извините… с приветом из города Алма-Ата, что означает «отец яблок»…
Отец яблок, думал он. Наш мудрый, великий, самый человечный, самый усатый отец яблок, думал он.
Раз в неделю приезжал Колька — в важной шапке, в дубленой шубе, на совершенно уже ни в какие представления не вписывающемся животе шуба натягивалась неприлично. Колька долго пыхтел внизу, снимая щетки со стеклоочистителей «жигуля», потом с трудом задирал голову на апоплексической шее, смотрел на балкон, часто мигая. «Давай, поднимайся, хрипел астматик, выбираясь из старого, навеки помещенного на балкон кресла, — давай, жиртрест…» Шел открывать дверь, волоча за собой рваный клетчатый плед — подарок еще к пятидесятилетию от тогдашней очередной Колькиной жены. Нынешняя, в крашеной копне сухих волос над совершенно белым, мучного цвета лицом, с широкой спиной и низкими ногами, шла на кухню, сразу принималась мыть тарелки и готовить еду — была она, при внешности самой злобной из торговок, бабой доброй и Кольке невероятно преданной — последняя, видать. Выпивали немного, Колька с большими подробностями рассказывал о делах в тресте — хотя служил он там начальником АХО, но все трудности в строительстве принимал близко к сердцу. «Это друг, — думал старик, дыша какой-то новой противоастматической гадостью, — это друг, и он может быть и таким любым…» Потом Колька начинал клевать носом, жена укладывала его подремать на часок, потом они уезжали — Колька, неделикатно разбуженный, ничего не понимал, хлопал белыми ресницами, жевал кофейное зерно, долго искал ключ от машины…
Гораздо реже заходил Сережа Горенштейн — один из новых приятелей. Познакомились еще тогда, в шестьдесят девятом, в той шумной и полной глупых надежд очереди… Для Сережки она стала первой — он некоторое время еще пошумел, и в калининской приемной, и на Пушкинской, и вывозили его однажды на милицейском автобусе за сорок километров ночью — пока, наконец, не сник, не притих, умеренно приторговывая своими поделками, довольно популярными в дипкорпусе. Что-то там такое, недостаточно выдержанное он ваял, что-то малевал, про какие-то выставки бубнил в каких-то пчеловодствах — старик этим не интересовался, детство все это, милое детство… Сам он, получив отказ, дергаться не стал, стал думать — но подоспела болезнь, и думать стало бессмысленно, нужно было доживать на пенсию по инвалидности и зарплату сторожа соседней платной автостоянки, потом — только на пенсию… «Им повезло, — думал астматик, — у меня под ногой оказалась банановая корка… Если бы не астма, мы бы еще посмотрели, кто кого — у этой уважаемой конторы с Кристаповичем бывало много хлопот, и не всегда в их пользу. Им повезло, — думал он, — им придется возиться с похоронами…» Мысли были нелепые, он сам отлично понимал, что с похоронами будет возиться Колька или собес, но ему было лень думать умно…
С Сережей подружились после того, как обнаружилось, что Кристапович отлично помнит его еще по коктейль-холловским временам — разносторонний Сережа играл там на рояле. Кристаповичу был симпатичен этот лихой, явно неглупый и добрый еврей, весь в седых кудрях, сильно хромой красавец, непременный человек всюду, где шла эта нынешняя странная московская жизнь — на каких-то ночных концертах нового, не похожем на джаз джаза, на вернисажах в обычных квартирах где-нибудь у черта на рогах, в новостройках, на приемах у дипломатов, куда приглашали со смыслом, которого Кристапович никак не мог понять…