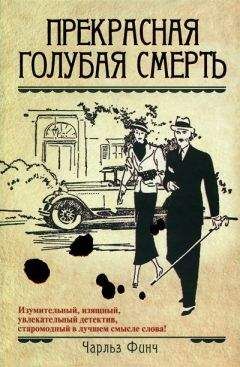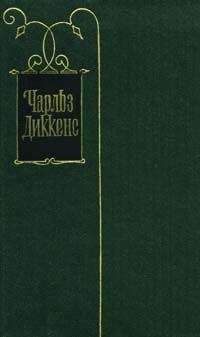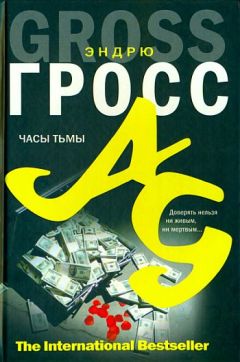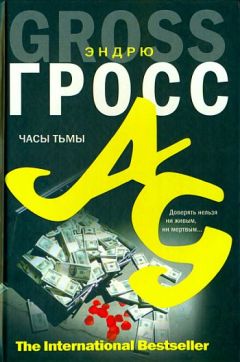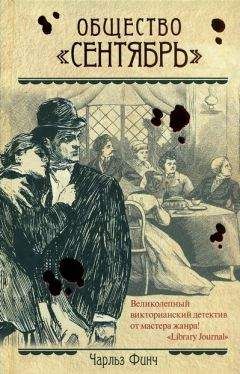Марсель Монтечино - Убийца с крестом
Сладостно прекрасная Анжелика с мозгами, растекшимися по синему покрывалу.
Голд стал под душ. Горячая вода барабанила по спине и плечам, промывала последние запыленные уголки его сознания.
«День, когда умерла музыка». Это из какой-то песни. Так юные «фаны» называли день смерти своего любимого рок-музыканта. Так он, Голд, называл день смерти Анжелики, День, Когда Умерла Музыка. День, когда погибло все. Он вновь видел перед собой лицо Гунца — гладкое и насмешливое. В той квартирке, недалеко от Вермонта. Тогда Гунц еще не был шефом, он служил в отделе внутренних дел. «Я прикрою твою задницу, ведь ты коп, — сказал тогда Гунц. — Но повышения тебе больше не видать, уж я позабочусь об этом. Девчонка погибла из-за тебя». Тогда Голд был лейтенантом. Он и по сей день лейтенант — один из старейших во всей полиции. Гунц сдержал свое обещание.
День, Когда Умерла Музыка. День, когда погибла его карьера. День, когда погиб его брак. Теперь он видел перекошенное лицо Эвелин — искаженное, залитое слезами. Эвелин стучала кулаками в ветровое стекло и вопила: «Ты ублюдок! Ублюдок!». Его одежда была разбросана по мокрой от дождя лужайке перед тем домиком в Калвер-Сити. Одежда была разодрана, разорвана в клочья. «Ты ублюдок!» Она стучала в окна машины. Она била в окна ногами! Он никогда не подозревал, что Эвелин способна на такую страсть.
День, Когда Умерла Музыка.
Уэнди видела, как Эвелин колотит по машине. Сколько ей тогда было — семь, что ли? Светловолосая пухлощекая девчушка с испуганными глазами пряталась за парадной дверью. И Голд подумал тогда: «Боже, неужели Уэнди тоже знает об Анжелике?»
Через два месяца, когда он нашел себе квартиру — эту самую квартиру, — посреди ночи зазвонил телефон. Голос Эвелин ядовито сообщил: «Я беременна. И ты никогда не увидишь ребенка, ублюдок! Молю Бога, чтобы это был мальчик — ты ведь так хотел мальчика. И ты его никогда не увидишь. Обещаю тебе».
Она сдержала свое обещание. Как и Гунц.
Фотографии он, конечно, видел. На снимках был худенький светлый мальчуган с такими, же, как у него, голубыми глазами. Он ходил смотреть фотографии к матери — пока та еще была жива. Его мать и Эвелин остались добрыми друзьями. Эвелин была у смертного одра матери. С Того Дня мать не выносила его:
— Как ты мог, Джек?
— Ты бросил все, Джек!
— Он даже не знает, кто его настоящий отец, Джек.
— У тебя было все, Джек. И ты пожертвовал этим.
— И это ради какой-то шварцы[19], Джек?!
Все было связано. Взаимосвязано. Гунц и Анжелика, Эвелин и Уэнди — все. Образы проплывали в сознании, как немного размытый фильм. Музыкальное сопровождение к фильму — саксофон Коулмена Хокинза. Но только теперь это был уже не Хок: теперь на саксе играл Минт Джулеп Джексон. Великолепный теплый звук инструмента, великолепное теплое движение.
— Позаботьтесь о ней, — говорил Джулеп. Его большое черное лицо блестело от обильного пота наркомана, обеспокоенные глаза были полуприкрыты тяжелыми веками. — Она хрупкая такая. — Джулеп говорил с сильным южным акцентом (так говорят негры в дельте Миссисипи). — Очень хрупкая. Позаботьтесь о ней.
Голд арестовал Минта Джулепа в крохотной гардеробной бара «Фолкэнер Лаундж». Героин был обнаружен в раструбе саксофона — там, где и указывал осведомитель.
— Боже мой, Боже мой! Это все, что она мне завернула, — сказал Минт Джулеп. — В прошлый раз судья говорил: «Еще раз попадешься — схлопочешь пожизненное». Это все, что она мне завернула.
— Правила не пишут, Джулеп. Любишь кататься, люби и саночки возить!
— Знаю, мистер Голд, знаю.
Минт Джулеп — здоровенный мужик весом чуть ли не в триста фунтов — рыдал в грязной гардеробной. Было тесно и жарко, слезы лились по его лицу, мешаясь с потом. Жирные руки в наручниках были завернуты за спину, так что он сидел не столько на расшатанном стуле из красного пластика, сколько на собственных ладонях.
— Послушайте, мистер Голд. Вы всегда были справедливы ко мне. Позвольте попросить вас об одном одолжении. — Джулеп поднял глаза и посмотрел на Голда. — Тут есть одна девчонка, она была со мной. Анжелика Сен-Жермен, не знаете такой? Она просто прелесть. Голосок у нее пронзительный. Может, из нее что-нибудь и выйдет, из Анжелики Сен-Жермен, а? Певицей себя воображает. Как бы там ни было, это моя девушка, и мне не безразлично, что с ней будет. Я люблю эту девочку. Боже, Боже, как я люблю эту малышку! Мистер Голд, вы должны помочь мне. Сходите ко мне, заберите девушку и посадите ее в автобус — ей надо вернуться в Луизиану. Если вы не сделаете этого, здешние сутенеры налетят на нее, как мухи на мед, и мне будет горько услышать об этом, сидя в тюряге. Уж я-то видел, как они на нее пялились, когда мы с ней ходили куда-нибудь. Мистер Голд, она слишком невинна, чтобы защитить себя. Силы в ней нет, понимаете? Она совсем хрупкая, мистер Голд. Умоляю вас, мистер Голд: позаботьтесь о ней!
И я позаботился о ней, это уж точно!
Хрупкая Анжелика. Сладостная Анжелика. Ее длинные тонкие пальцы, легкие как перья, играли на твоем позвоночнике, скользя вверх и вниз, когда ты трахал ее, Голд. Анжелика прекрасная, та самая, что обвивала тебя ногами, вопила и рыдала в бесконечном оргазме, пока соседи не начинали стучать в стену:
— Эй, там, вы что, совсем скоты, что ли?!
И тогда они лаяли и мычали, кукарекали и выли до изнеможения, падали в потные объятия друг друга и хохотали до слез.
— О, Джек, я не могу без тебя! Ты нужен мне больше, чем это.
Больше, чем это? Черт бы меня подрал!
«Позаботься о ней! Она такая хрупкая».
— Я так люблю тебя, Джек!
Даже больше, чем это?
Голд вышел из душа, насухо вытерся полотенцем. В комнате звучала музыка: Майлз играл на своей фисгармонии, Ред Гарланд — на пианино, Филли Джо Джонс — на ударных, Пол Чеймберз — на басу. Уж не пятьдесят ли седьмой год? Накануне падения Майлза. Еще до того, как он испугался быть нежным. До того как мы все испугались этого.
Он вспомнил о вчерашней встрече с Куки. Бедная Куки! Ведь отказать шлюхе в сексе — это все равно что запретить художнику рисовать. Но разве он мог признаться ей, что не имел женщины вот уже почти четырнадцать лет?
С того Дня, Когда Умерла Музыка.
Разве мог он признаться, что встречается с ней только потому, что женщина, умершая четырнадцать лет назад, начинала казаться не такой уж мертвой — благодаря их внешнему сходству? Разве мог он сказать ей, что она служила лишь суррогатом, фотографией привидения?
Голд взглянул на часы: чуть больше девяти. Время ничем не хуже и ничем не лучше любого другого. Он налил себе двойной виски и сел за кухонный столик.
Сегодня можно было бы никуда не ходить. Просто сидеть здесь и пить до отупения, пока боль не отступит. Кому он там нужен? Эвелин, конечно же, прислала приглашение. С единственной целью: разбередить старые раны. Торжественно продемонстрировать сына, которого отняла у него. Может быть, похвастать новым мужем. Хотя каким, к черту, новым — они женаты уже двенадцать лет. Почти столько же, сколько с Голдом. Теперь она Эвелин Марковиц. Доктор и миссис Стэнли Марковиц. А также их сын, Питер. Питер Марковиц. Ну, хоть Уэнди сохранила его фамилию, и на том спасибо. Пока замуж не вышла. Нынче она миссис Хоуи Геттельман. У них сын — Джошуа. Он взглянул на фото над столом. Уэнди звонила и просила прийти сегодня. Беленькая Уэнди с пухлыми щечками. Когда он наконец-то добился права посещать ее, она ожидала его у тротуара с чемоданчиком, где было упаковано самое необходимое. «Папочка, ты любишь меня? А со мной ты не разводишься?»
Что за гадский уик-энд нынче! То шеф Гунц с утра, то бар мицва сегодня. Слишком много воспоминаний. На песню похоже: «Слишком Много Воспоминаний». Однако «Так Мало Надежды».
Уэнди знала, что он придет, если она попросит его прийти. Он никогда ни в чем ей не отказывал. Хот-доги в Диснейленде. Летние отпуска в Испании. Все эти годы одна лишь Уэнди хотела быть с ним. Только она любила и прощала его. Голд знал, что Эвелин всячески мешала этому. Эвелин выпытывала у матери Голда, что он собирается подарить Уэнди на праздник Ханука[20] или на день рождения, и дарила такой же подарок, но гораздо лучше и дороже.
Теперь у нее были деньги для подобных игр. Деньги доброго доктора. Доктор Марковиц пользовался популярностью в Беверли-Хиллз, Бель-Эйр и Энсино среди женщин, перешагнувших печальный порог сорокалетия. Убрать лишнее? Пожалуйста! Удалить морщинки, подтянуть лицо? Пожалуйста! Был и побочный рог изобилия — надо же чинить искривленные носовые перегородки кокаиновым деткам все тех же стареющих дам.
Захватив с собой стакан с виски, Голд пошел в ванную. Критически осмотрел себя в зеркале и заметил, что изрядно потерял форму. Как автомобиль: то одно вышло из строя, то другое, а в одно прекрасное утро не заведется, и все тебе! Лицо было не то чтобы изрыто морщинами, а совсем покрыто сетью филигранных морщинок: тонкие, как паутина, ручейки расходились в стороны от глаз, от углов рта. Цвет лица — бледный, аж просвечивающийся. «На мертвеца смахиваю», — подумал Голд. Только нос жил своей жизнью: виски уже бродило по капиллярам, и он светился розовым блеском. Ирландский нос. Не нос, а какой-то клюв цвета копченой лососины. Такие носы у тех, кто жрет солонину с капустой.