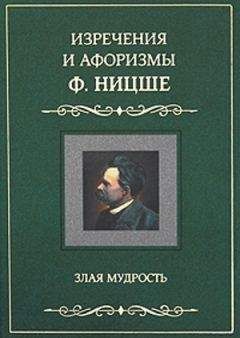Чарльз Холдефер - Наемник
– Ну, папа, я не знаю, – мягко отозвалась она.
– Вливание новой крови – это именно то, что нам нужно для привлечения новых членов! К тому же у тебя такой приятный голос: ты сможешь петь в нашей радиопередаче «Пятничный вечер с Теофилом» на местном канале. Я собираюсь расширить ее до получаса. Из нас получится замечательная команда!
– Папа, пожалуйста, – попросила она.
Меньше чем через неделю после этого разговора я сообщил ей свои новости.
– Послушай, Бет. Я только что узнал. Меня отправляют в Англию.
Она резко втянула воздух:
– О-о, неужели?
К тому времени наши отношения приобрели серьезный характер. В них не было ничего даже отдаленно похожего на ту неискушенную любовь, что толкнула меня на первый брак. Нет, я повзрослел, мои эмоции стали более зрелыми. Дни, которые мы с Бетани проводили отдельно, превратились для меня в унылые пустые мосты, единственная цель которых – вести в будущее, к тому времени, когда мы снова сможем побыть вместе. Я перестал получать удовольствие в обществе армейских приятелей. При малейшей возможности мы с Бетани ехали на рок-концерты в Миннеаполис или проводили время в мотелях на шоссе I-70. Мы кормили друг друга дольками апельсинов и занимались сексом в душе. Следующий вопрос казался мне очень логичным.
– Поедешь со мной?
Она на мгновение отвела взгляд, затем повернулась ко мне и просияла. С горящими яркими глазами она протянула мне обе руки.
– Да! Bay, Англия! Здорово!
В то время такой поворот событий представлялся ей, наверное, романтическим бегством. Идеальная ситуация. Хотя в тех обстоятельствах, думаю, Бетани обрадовалась бы даже предложению переехать в Гренландию.
* * *Во время первой войны в Заливе, когда революционная гвардия Саддама и вместе с ней множество несчастных всех мастей уходили из Кувейт-Сити, наша авиация настигла их на дороге в Басру. Этот исход помнят многие, хотя мало кто теперь согласен говорить о нем. Результат не допускал двойного толкования. Обстрелы и бомбежки гарантировали, что никто не ушел слишком далеко. Отступающие были уничтожены, все без разбора.
После телевидение показывало съемки разбитых и смятых в лепешку машин, разбросанных в беспорядке вдоль дороги; иногда в кадре на мгновение появлялись кабины с обугленными трупами на разных стадиях разложения. Многие очевидцы называли это событие как угодно, только не сражением. Один пилот вроде бы сказал: «Стреляли как по индюшкам». Фраза обошла все средства массовой информации.
Замечу в скобках, я не знаю, как стреляют по индюшкам – с индюшками мне приходилось сталкиваться только в канун Дня благодарения, когда их тяжелые замороженные тушки ложатся на противень, – но можно предположить, что это примерно то же, что стрельба по сидящим уткам. (А может, еще проще, ведь мишень-то гораздо жирнее?) Вполне возможно, с воздуха отступающая революционная гвардия в грузовиках и командирских внедорожниках выглядела именно так. Как стая толстозадых индюшек.
Но я видел их на земле, причем на следующий же день. Еще до того, как туда пробрались журналисты, до того, как на дороге был наведен порядок. Первыми туда прибыли британские солдаты, затем прислали и американцев – вылавливать случайно уцелевших. Я входил в мобильную группу дознания, которая следовала за войсками на случай, если надо будет на месте разбираться с пленными. В то время там царил порядочный бардак. Никто не знал, что революционная гвардия могла захватить в Кувейт-Сити и тащить теперь с собой; никто не знал, существует ли вероятность поймать там какую-нибудь важную шишку, которая была бы в курсе планов Хусейна. События неслись полным ходом.
На горизонте стояло красное зарево: вдалеке горели нефтяные скважины. Черные воронки туч напоминали перевернутую горную гряду – будто громадная когтистая лапа опустилась с небес и одним жутким взмахом разодрала твердь.
Нам было приказано постоянно держать при себе винтовки с магазинами на тридцать патронов. Даже переводчиков снабдили оружием и бронежилетами. Я видел несколько человек с приборами ночного видения, что было просто абсурдно.
Поначалу ехать было очень удобно – пустое широкое шоссе, открытое со всех сторон. На эту дорогу вполне можно было бы посадить тяжелый грузовой самолет. Но затем на горизонте появилось множество черных точек. Издалека в них не было заметно ничего необычного. Как будто мы подъезжали к жилью – точно так же в Аризонской пустыне появляются вдали насквозь прожаренные солнцем стационарные трейлерные поселки. Знаете, где можно заправить машину и добыть банку газировки из холодильника. Все в машине подались вперед, чтобы лучше видеть. Судя по карте, в этом месте не было никакого жилья.
Нет, эти точки, – подъехав ближе, мы замедлили ход, – это были машины. Они валялись повсюду, некоторые на боку или вообще вверх колесами, среди воронок и невероятной россыпи похожих на конфетти обломков – разбитых вещей и военного имущества. Мы ехали дальше, лавируя между скелетами машин и обнаруживая их все больше и больше. Наконец нам было приказано остановиться и выгрузиться.
Мы почти не разговаривали. Вероятно, на нас действовали трупы, и я не имею в виду те, что лежали на земле среди обломков. Скорее те, что не смогли выбраться и остались в машинах. Вот вам и индюшки – эти тела выглядели так, будто их оставили в микроволновке на несколько часов. Они и пахли-то не слишком сильно, тоже как индюшки. Да и для гниения было еще слишком рано. Раз познакомившись с запахом гниющего тела, его уже не забудешь, но здесь этот процесс еще даже не начался. За вонью тлеющих покрышек и бензиновых выхлопов, за сладким тошнотворным парфюмерным запахом – должно быть, в багаже было много награбленной парфюмерии для жен и дочерей – сильно ощущался запах мясного жаркого.
Оказалось, что после волос и одежды легче всего горят губы. Не важно, в каком положении находился человек – все еще за рулем, на капоте или вообще отдельно, в стороне от машины; не важно, целым он был или поврежденным (а некоторые части этих тел все еще дымились), – но все они, труп за трупом, казалось, ухмылялись. Ошеломленные увиденным, мы начали осматриваться. Говорить было не с кем. Ни одной души, которую можно было бы допросить. Видя вокруг одно и то же, мы невольно ускоряли движение, и вскоре все дружно перешли на бег. Так мы спешили выбраться оттуда. У меня появилось жуткое ощущение, что, хотя поисками вроде бы занимаемся мы, на самом деле наблюдают за нами. Чем дальше, тем сильнее. За нами внимательно следили. И тех, кто наблюдал за нами, невозможно было обмануть – о нет, только не их! Они знали о нас все. Понимали, что мы шокированы. Может, поэтому они все ухмылялись?
* * *Я рассказываю об этом не для того, чтобы попугать или продемонстрировать раскаяние. Я не хочу сказать: «Знаете, это же стыд, нам не следовало туда являться! И вообще, нашим надо было позволить революционной гвардии отступить домой с веселыми песнями. Послушайте, нам, верно, надо было сосредоточить воздушные удары исключительно на персонале идеологической службы, а войска, вместо пятисотфунтовых и вакуумных бомб, осыпать „сникерсами“ и убедительными листовками о пользе позитивного мышления.»
Нет, я рассказываю об этом по другим причинам. Дело в том, что в тот день я узнал цену. Разумеется, я был потрясен и испытывал отвращение; я не люблю об этом вспоминать и тем более задумываться. Но этот день кое-чему научил меня, закалил, дал силы и возможность понять политику взрослого мира – а позже и стать контрактором. Вот что я крепко усвоил: то, что все мы принимаем как данность, что ценим и любим, остается жизнеспособным только благодаря нашей готовности делать это.
Никто не хочет говорить об этом, никто не хочет признавать эту жестокую готовность; каждый хотел бы загнать ее с глаз подальше – но многие ли из нас хотят жить иначе? У многих ли критиков хватит духу отказаться от защиты, которая реализуется ценой подобных действий? Во всяком случае, вопрос этот решается не на личностном уровне, он гораздо серьезнее чьей-то личной правды. Фундамент цивилизации уходит глубоко, очень глубоко – и, что бы ни говорили, достигает ада.
Поэтому я стою на своем. Позволить тем людям уйти было бы серьезной стратегической ошибкой и вообще неправильно, имея в виду возможные последствия. Этим – этим мы заплатили за собственную правоту. Если смотреть глобально, прав не всегда тот, кто поступает как положено юным скаутам; вот только детям мы этого не говорим. Нет, борьба за правое дело – страшный процесс, сметающий на своем пути многое и многих. Не только тиранов и злодеев, но и тех, кому не повезло, кто оказался в неудачном месте в неудачное время, кто ничего не натворил, – в общем, да, невинных людей. Всякий, кто скажет иначе, необъективен или пытается оправдаться. А может быть, просто лжет себе. Мне не доставляет удовольствия это говорить, но невинные не только умирали и будут умирать – они должны умирать.