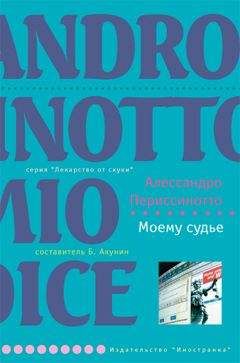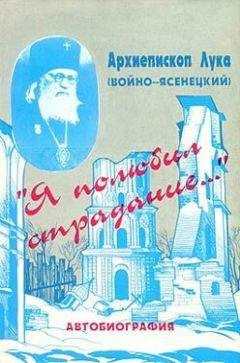Лука Ди Фульвио - Чучельник
На восковой груди было выведено: «аУгуСТо аЙяЧчИо».
Больной был без сознания, но рука его крепко сжимала красный фломастер.
VIII
Человек в седьмой раз пронесся по проспекту параллельно воскресному людскому потоку, ползущему под портиками. Дело было к вечеру. Свет все больше тускнел, вычерчивая длинные тонкие тени, в которых уже проглядывали сиреневые тона близящегося вечера.
Скоро стемнеет. Это ему на руку, так как у него назначена встреча. Согласно плану.
Утром он перевез мать в светлую палату городской больницы. Понаблюдал за беготней врачей и сестер, нанюхался прилипчивого запаха лекарств и хлорки, подметил в глазах больных страдание и страх перед смертью, что раздражало его донельзя. Но сразу уйти он не мог: нельзя привлекать к себе внимание неадекватным поведением. Сознание грандиозности своего замысла побуждало его остерегаться. Перед ним, как мечтала мать, открывается блестящее будущее. Многолетнее одиночество будет вознаграждено. Правда, цена той награде – его анонимность. Он должен научиться быть невидимкой. Случайным прохожим. Несмотря на свою исключительность. Поэтому, усевшись в уголке палаты, он до конца отыграл свою роль: расспрашивал врачей, терпел их апломб и профессиональную снисходительность. И даже в какой-то мере был им за это благодарен, поскольку они неосознанно позволяли ему почувствовать себя мелким, незначительным, бестолковым. В этом и состоит величие его замысла: весь мир должен служить его цели. Всего час спустя он был в полной боевой готовности. По больничным коридорам и отделениям передвигался уверенно, как будто следуя мысленной карте, и при этом никто его не замечал, никто не удостаивал взглядом. Он скользил вдоль стен, как тень. Спустился на первый этаж, вошел в операционную, порывшись в шкафчиках, быстро нашел то, что ему нужно. Скальпель, пилу, жирные хирургические карандаши, кривую иглу. Все это он сложил в холщовую сумку вместе с рыболовными крючками, мотком пеньковой веревки, катушкой нейлоновой лески и зеленой бархатной тесьмой. Сумку он спрятал под пальто из тяжелого колючего сукна, не слишком элегантное, но вполне добротное. В кармане пальто нащупал плотный картонный конверт, где хранились три засушенных листика.
Он чувствовал себя непобедимым за своей новой маской человека из толпы. Шел к выходу спокойно, как обычный посетитель, чуть сгорбив плечи, как будто унося на них боль за родственника или друга. Дойдя до двери, оглянулся, привлеченный убожеством вестибюля, и стал изучать его, словно видел впервые. С обеих сторон два небольших зала ожидания. Кресла и диваны обиты коричневатым кожзаменителем, на каждом подлокотнике большая пуговица, под которую забран дерматин. Черные столики из матового пластика. На столешницах кипы старых растрепанных журналов. От двух остались только обложки. В зале справа чудом сохранился ковер с загнутыми кверху углами. Он подошел и опустился в кресло. Под пальто негромко звякнули хирургические инструменты.
Прямо перед ним размещалась внушительная стойка темно-зеленого мрамора с черными и желтыми прожилками. Из-за нее выглядывала сестра. Человек пригляделся к ней. На вид лет пятьдесят; редкие сальные волосы цвета соломы с отросшими черными корнями, перехваченные бледно-голубой резинкой под цвет, вернее, под бесцветность пустых глаз. Пальцы заученным жестом теребят ручку; длинные, заостренные ногти покрыты серебристым лаком. Отвечая на телефонный звонок, она то и дело бросает взгляд на свои ногти. Наверняка где-нибудь в укромном месте у нее хранится набор пилочек, щипчиков, бутылочек с лаками и ацетоном. Человек полной грудью вдохнул человеческий запах этой обители слез. Все, от чего он до сих пор отказывался, все, что мать ему строго-настрого запрещала, в это утро стало его второй натурой. Он закрыл глаза и притворился, что задремал. А сам сосредоточился на том, чтобы слышать шумы, вдыхать больничные запахи, вникать в обрывки разговоров, большая часть которых посвящена забастовке мусорщиков. Когда он вновь открыл глаза, то образ постороннего человека уже был доведен до совершенства.
Тогда он встал и ушел.
Из багажника машины он вытащил бесформенный сверток сантиметров тридцати в диаметре и чуть меньше метра длиной. Оберточная бумага противно заскрипела, когда он сунул этот сверток себе под мышку. Затем пешком отправился в город.
Чудесное превращение состоялось, теперь он стал невидимым и наслаждался вновь обретенной свободой. Теперь никто не укажет на него пальцем, никто не заклеймит позором, и он может свободно перемещаться в людской реке, которая не впадает в море. Теперь можно. В ожидании сумерек, которые его замысел озарит ярким светом. Никому из людского потока и в ум не придет, что разворачивается вокруг него, никто не видит болезнь так, как видит ее он: выпущенной на городские улицы, притаившейся среди холмов мусора, танцующей на развалинах оперного театра, блуждающей в темных закоулках. Никто ее не замечает, потому что болезнь хитра, она умеет прятаться от людского глаза на самом виду, шагая с ними плечом к плечу, как полноправный член общества. И делая свое дело – заражая ближнего, распространяясь, не думая про добро и зло, ведь и в том, и в другом случае цель у нее одна – помочь ему свершить свою судьбу.
Отныне жизнь его – не что иное, как карандаш в руке художника. Она пряма и проста, как больничный коридор. Остается пройти ее до конца. Это лишь вопрос времени. Причем время, которое он рассчитывает из чисто практических соображений, скорее относится не к нему, а к другим. К тем или к той, кому оно выносит приговор. А для него оно течет медленно и в то же время быстро, поскольку шаг наступающих сумерек неумолим. Медленно – потому что решение принято, а значит, замысел, считай, осуществился, по крайней мере, осуществился в главном: в принятии решения. В понимании величия своих целей. И потому спешить ему некуда. А быстро – потому что какой-то уголок его сознания сопротивляется принятому решению, и это сопротивление приближает его к моменту истины, к действию, как таковому. Быстрота и медлительность уживаются в мозгу, подчиняясь ощущению собственной неподвижности, как будто не он идет по улице, а город скользит у него под ногами.
И, скользя, город и судьба подвели к нему антикварный магазин.
Он увидел ее впервые тридцать два года назад, когда она была юной продавщицей, но уже пользовалась доверием благородных семейств города, а он был мальчишкой двенадцати лет. Мать принимала ее на первом этаже виллы. Он слышал, как они мило беседовали, но в интонациях обеих женщин уловил подспудное напряжение. Это разожгло его любопытство, и он стал подслушивать. Антикварша хищным взглядом оценивала драгоценности, ходила по комнатам, рассматривала предметы обстановки. Хозяйка дома решила негласно избавиться от своих сокровищ. А он следил за ними, спрятавшись в тени. Они попадались ему на глаза лишь временами, поскольку он боялся себя обнаружить, но шаги их доносились отчетливо. Нервные, отрывистые – матери и томные, нарочито ленивые – антикварши. Когда осмотр закончился, обе снова заперлись в комнате на первом этаже, подальше от вездесущих ушей монахинь. Продавщица назвала цену каждого предмета, даже не заглядывая в список, составленный хозяйкой дома. Он из ниши на лестничной площадке между первым и вторым этажом, прячась за чугунной решеткой, увенчанной бронзовым купидоном, видел, как потемнело лицо матери и глаза превратились в щелочки. Она ничего не сказала антикварше, торговаться не стала. Когда мальчишка вырос, он понял, что жалкие гроши, предложенные матери антикваршей, были ценой за негласность. Все печати, все фамильные гербы следовало вытравить. Все следы сделки будут уничтожены, и никто ничего не узнает, заверила антикварша. Плата за молчание. Распрощавшись, обе женщины преобразились. Мать была в бешенстве. А молодая антикварша расточала улыбки направо и налево, довольная выгодной сделкой. У нее были платиновые волосы с двумя вульгарными завлекалочками и пышным начесом на макушке, похожим на ком сахарной ваты. Поднявшись, она одернула узкую юбку цвета морской волны, едва доходившую до колен, послюнила указательный палец, потерла его о большой и наклонилась, чтобы зафиксировать поехавшую петлю на чулке. Когда она наклонилась, в квадратном вырезе розовой кофточки без рукавов показалась бледная мягкая грудь. Затем женщина натянула короткий жакетик того же цвета, что и юбка, открыла маленькую жесткую сумочку, вокруг ручки которой был завязан шарфик, вытащила чековую книжку и выписала чек на сумму, причитающуюся хозяйке дома. Не сдержав приступа эйфории, она шагнула к синьоре Каскарино с явным намерением поцеловать ее в щеку, но мать проворно отступила и указала антикварше на выход. У той был рыхлый, обвисший зад, несмотря на молодость. Видя, как он колышется под тканью обтягивающей юбки, мальчик почувствовал колотье в левом мизинце. От недавно наложенных швов кровь застаивалась, и распухший желтоватый обрубок болезненно пульсировал. Но распространение инфекции удалось остановить.