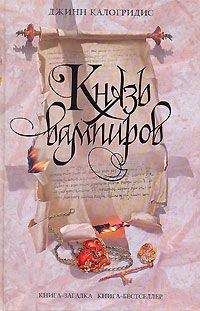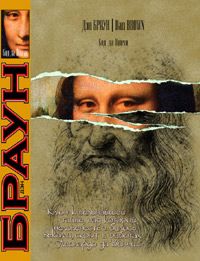Элизабет Костова - Историк
— Конечно, конечно, — поспешил согласиться отец, — да, давайте попробуем все это.
Нижнюю из пыльных площадей городка заполняла шумная музыка, льющаяся из усилителей: шло какое-то местное празднество и выступали человек десять-двенадцать детей в костюмах, напомнивших мне «Кармен». Маленькие девочки извивались на месте, шелестя желтыми оборочками тафтяных юбок, скрывавших ноги до щиколоток. Их головки грациозно покачивались под кружевными мантильями. Мальчики притопывали перед ними, падали на колени или лихо кружили подружек. Каждый был наряжен в короткую черную курточку с узкими брючками, а головы их украшали бархатные шляпы. Музыка временами вспыхивала сильней, и тогда в ней слышались словно бы ритмичные щелчки бича, становившиеся все громче, по мере того как мы подходили. Еще несколько туристов стояли в стороне, любуясь танцорами, а родители, бабушки и дедушки занимали ряды складных кресел у сухого фонтана и встречали рукоплесканиями каждый взрыв музыки или особо звонкую чечетку мальчишеских каблуков.
Мы задержались всего на несколько минут, а затем свернули по дороге вверх, выбрав улицу, которая, очевидно, вела к церкви на вершине. Отец ни слова не сказал о быстро опускавшемся солнце, но я чувствовала, что наша спешка приурочена к внезапной смерти дня, и не удивилась, когда свет над этой дикой местностью разом погас. Мы поднимались вверх, и на горизонте все резче проступала кайма черно-синих Пиренеев, но вскоре она растаяла, слившись с черно-синим небосводом. От стен церкви открывался величественный вид: не головокружительный, как в тех итальянских городках, что до сих пор снились мне по ночам, но от него захватывало дух. Холмы и равнины сбегались к предгорьям, а предгорья тянулись к темным вершинам, отгораживающим широкие куски дальнего мира. Прямо под ногами загорались городские огни, люди выходили на улицы, в длинные переулки, говорили, смеялись, и над стенами маленьких садиков поднимался запах гвоздики. Ласточки залетали в колокольню и вылетали обратно, кружась в воздухе, словно привязанные к башне невидимой нитью. Я заметила одну, бестолково кувыркавшуюся среди остальных, невесомую и неуклюжую среди быстрокрылых подруг, и догадалась, что это первая летучая мышь поторопилась вылететь в догорающий вечер.
Отец вздохнул и задрал ноги на толстый и невысокий каменный столбик — коновязь или приступок, чтобы забираться на ослика? Ради меня он высказал эти догадки вслух. Как бы то ни было, столбик видел много веков, бессчетное множество таких же закатов, и для него совсем недавно огоньки свечей в домах сменились электрическим светом фонарей. Отец снова, казалось, расслабился, развалился после вкусного ужина и прогулки по кристально-чистому воздуху. Я не осмелилась расспрашивать, чем ему не угодила рассказанная ресторанным мэтром легенда, но у меня возникло чувство, что есть истории, повергающие отца в еще больший ужас, нежели та, которую он начал рассказывать мне. На этот раз я не просила его продолжать: он заговорил сам, словно отгораживаясь от чего-то худшего.
ГЛАВА 8
— Итак я прочел первое письмо, вот оно:
«13 декабря 1930 г. Тринити колледж, Оксфорд
Мой дорогой и злосчастный преемник!
Меня немного утешает то обстоятельство, что этот день в церковном календаре посвящен Лючии, святой Света, вывезенной викингами из южной Италии. Кто мог бы обещать лучшую защиту против сил тьмы — внутренней, внешней, вечной, — нежели свет и тепло, когда близится самый холодный и темный день в году? И я все еще здесь после новой бессонной ночи. Будешь ли ты менее озадачен, узнав, что я теперь сплю со связкой чеснока под подушкой или что ношу на своей атеистической шее маленькое золотое распятие? Разумеется, я не делаю ничего подобного, но предоставлю тебе, если пожелаешь, воображать эти средства защиты: у каждого из них есть интеллектуальное, психологическое соответствие, и за них-то я и цепляюсь теперь день и ночь.
Подведу итоги своему отчету о проделанной работе: да, прошлым летом я неожиданно включил в маршрут своей поездки Стамбул — и сделал это под влиянием маленького клочка пергамена. Я изучил все источники, имеющие отношение к Drakulya из моей таинственной книги, какие мог достать в Оксфорде и в Лондоне. По этой теме я делал выписки и заметки, которые ты, беспокойный будущий читатель, найдешь рядом с этими письмами. Я несколько дополнил их позднее и надеюсь, что они не только направят, но и защитят тебя.
Накануне отъезда из Греции я искренне намеревался забросить эти бесцельные поиски, затеянные из-за случайно подвернувшейся книги. Я прекрасно сознавал, что воспринимаю ее как вызов, брошенный мне судьбой, в которую я в сущности даже не верил, и что пустился в погоню за зловещим и неуловимым Drakulya из своеобразной ученой бравады, желая доказать неизвестно кому, что я во всем способен отыскать исторический след. Собирая и укладывая чистые рубашки и выгоревшую панаму, я пришел в столь смиренное состояние духа, что готов был забыть всю эту историю.
На беду, я, как обычно, оказался излишне предусмотрительным и оставил себе слишком большой запас времени. У меня оставалось ничем не занятым утро в день отъезда. Я мог бы, разумеется, зайти в «Золотого волка», выпить пинту темного и проверить, не там ли мой добрый приятель Хеджес; или же — невольно пришла на ум эта злосчастная мысль — мог напоследок заглянуть в отдел редкой книги, открывавшийся в девять. Была там одна папка, которую я намеревался просмотреть (хоть и сомневался, что это поможет делу), — ссылка под заголовком «Оттоманская империя», которая, как мне показалось, относилась к времени жизни Влада Дракулы, поскольку документы в списке были датированы от середины до конца пятнадцатого века.
Конечно, твердил я себе, невозможно выслеживать все возможные источники по этому периоду по всей Европе и Азии: на это ушел бы не один год, а вернее, не одна жизнь — а ведь добычи от этой охоты вряд ли хватит на статью. Тем не менее я обратил стоны прочь от веселой пивной — оплошность, не раз приводившая к гибели бедных ученых мужей, — и направился к редким книгам.
Папку с документами я нашел без труда. В ней обнаружились четыре расправленных свитка оттоманского производства, переданных в дар университету в восемнадцатом столетии. Каждый свиток пестрел арабской вязью. Англоязычное описание, вложенное в папку, заверяло, что для меня там не найдется кладов и сокровищ ( я первым делом обратился к английской справке, поскольку мой арабский прискорбно слаб и, боюсь, таким и останется. У человека хватает времени лишь на горстку великих языков, если только он не готов пожертвовать всем прочим ради лингвистики). Три свитка представляли собой перечень налогов, выплаченных жителями Анатолии султану Мехмеду Второму. Последний перечислял подати, собранные в городах Сараево и Скопье, немного ближе к дому, если считать «домом» замок Дракулы в Валахии, однако для тех мест и времен все еще дальняя окраина империи. Я со вздохом отложил свитки и задумался, успею ли еще на краткое, но приятное прощание с «Золотым волком». Однако, когда я укладывал пергаменты обратно в картонную папку, мне на глаза попалась короткая надпись на обороте последнего из них.
Это был краткий список, небрежная записка, древние каракули на обороте официального документа, направленного султану из Сараево и Скопье. Я с любопытством прочел. Очевидно, это был счет расходов: слева перечислялись купленные предметы, а справа — их стоимость в неназванной валюте. «Пять молодых горных львов для преславного султана, 45», — с интересом прочел я. «Два золотых пояса, украшенных самоцветами, для султана, 290. Двести овчин для султана, 89». А в последней строке старого пергамента запись, от которой волоски у меня на руках встали дыбом: «Карты и военные отчеты Ордена Дракона, 12».
Как, спросишь ты, сумел я так быстро схватить все это, если мои знания в арабском так скудны, как я уже признавался? Мой сметливый читатель, ты не спускаешь с меня глаз, заботливо сопровождаешь каждый мой шаг, и за это я благословляю тебя. Эти каракули, эта средневековая памятка была составлена на латыни. И нацарапанная внизу дата врезалась мне в память: 1490.
В 1490 году, как я помнил, Орден Дракона обратился в прах, сокрушенный мощью Оттоманской империи; Влад Дракула был четырнадцать лет как мертв и похоронен, если верить преданию, в монастыре на острове Снагов. Орденские карты, отчеты, тайны — что бы ни подразумевала эта неясная запись — продавались по-дешевке, гораздо дешевле изукрашенных самоцветами поясов и кип вонючей овчины. Возможно, они были добавлены к сделке в последнюю минуту, как диковинка, образчик бумаг побежденных, назначенный позабавить и польстить просвещенному султану, дед и отец коего выражали невольное восхищение варварским Орденом Дракона, называя его острием ножа, грозящего сердцу империи. Кто был тот купец, странствовавший по Балканам, писавший на латыни и беседовавший на каком-нибудь славянском или романском наречии? Несомненно, он был человек высокообразованный, раз вообще умел писать: возможно, еврей-купец, овладевший тремя, а то и четырьмя языками. Кто бы он ни был, я благословлял его прах за его любовь к точным подсчетам. Если посланный им караван с добычей дошел благополучно и добрался до султана, и если — самое невероятное — груз его сохранился в султанской казне, среди драгоценностей, чеканной меди, византийского стекла, варварских святынь, трудов персидских поэтов, каббалистических сочинений, атласов, звездных карт…