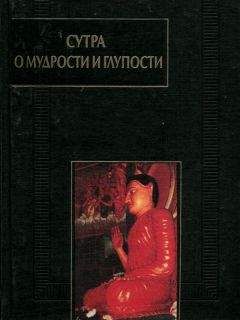Томас Гиффорд - Ассасины
И я решил, что лучше не знать ответа на этот вопрос.
Однако кто же все-таки предал заговорщиков?
...Рана на спине зажила. Остался лишь длинный шрам. Боль время от времени я испытывал, но то были лишь глухие отголоски прежней острой боли. Я наполнил ванну такой горячей водой, что зеркало затуманилось от пара. Затем откупорил бутылку виски, отец Данн раздобыл ее в какой-то забегаловке, потворствующей вкусам исключительно бриттов. На вкус виски показалось почти сладким, но приятным, немного отдающим торфяным дымком; следовало признать, в жизни еще не пил такого хорошего виски. А называлось оно «Э'Драдур», и, как объяснил отец Данн, изготавливали его на маленьком заводе в Шотландии. Вообще, когда дело доходило до «огненной воды», Данн проявлял недюжинное понимание этого вопроса. Я лежал в ванне и подливал виски на кубики льда, пока не осталось всего полбутылки. Крепкий напиток снял напряжение.
Я очень устал, однако теперь мне казалось, что не стоит предавать происходящему слишком уж большого значения. Меня целиком поглотили все эти римские легенды и интриги, и если я вдруг выйду из игры, никто по мне скучать не будет. Мысль оказалась утешительной. Возможно, я вообще ничего не значу. Невелика будет потеря... И вообще, когда находишься в Риме, надо вести себя, как принято у римлян. Но кто будет о том судить?
Д'Амбрицци...
Что из сказанного им правда? Что вообще является правдой? Кто-нибудь помнит вообще, что такое правда? Я отмокал в горячей воде и мысленно пребывал в некоем иллюзорном мире...
Мне казалось, что я лежу и умираю на песчаном пляже, в тени пальмы плачет хорошенькая девушка. И еще там был полковник. Его тень надвинулась на меня, загородила солнце, лучи его сияли над фуражкой с приподнятой тульей и слепили меня. Лицо у полковника было глупое, и еще на нем были очки, а в руках пистолет...
В голове звучала печальная песенка Дональда Фейджена, я прекрасно понимал, что нахожусь в ванной, что вокруг пар, что рядом бутылка виски и лед в ведерке тает, и однако при мысли о том, что может произойти завтра, в животе все сжималось от страха. И одновременно я истекал кровью на пляже, самолет, который я нанял у костлявого мужчины в двухцветных ботинках, за мной все не прилетал, девушка предала меня, полковник тоже предал, и я должен был умереть. Я понимал, что вычитал все это в какой-то книжке, сюжет ее известен, один прощальный взгляд и... А песенка все продолжала звучать, и ясно было одно: меня убьет лихорадка, если не все эти выпущенные в меня пули...
Господи. Д'Амбрицци хотел убить Папу!
И убил Лебека. А потом выяснилось, что это совсем не тот человек.
А ему хоть бы что! Ни малейшего раскаяния.
Как можно?...
Может, все дело в войне? Ведь тогда шла война, она многое изменила. Прежние правила уже не действовали...
В конце концов я вышел из ванной и побрел к постели, лег, весь дрожа. Начал вспоминать Габриэль Лебек, смуглую ее кожу, округлые формы, понимая, что никогда ее больше не увижу. И одновременно страстно мечтая о том, чтобы она обвила меня сильными своими ногами, заставила погрузиться в себя, туда, где так тепло и безопасно... Я жаждал покоя и безопасности. Не так уж многого и требовал.
Можно ли чувствовать себя в безопасности на приеме у Инделикато? Вряд ли. Приглашения нам оставили у администратора гостиницы. Кардинал будет счастлив видеть нас у себя на вилле.
Завтра вечером.
* * *Снова во сне ко мне пришла мама.
Все тот же старый сон.
Только на этот раз она оказалась ближе. Одета в тот же прозрачный халат или пеньюар, и сцена действия та же, за долгие годы я выучил ее наизусть. И она тянется ко мне, волосы встрепаны, на длинных пальцах с накрашенными ногтями поблескивают кольца, но на этот раз я вижу ее гораздо отчетливее, словно сняли одну из полупрозрачных занавесей, отделявших нас друг от друга.
Я растерялся и смутился, точно застиг ее в самый неподходящий момент, стал свидетелем чего-то очень личного, тайного и постыдного. Я не должен был оказаться здесь, и однако она знала, что я здесь, тянула ко мне руки, что-то говорила. Я чувствовал аромат гардении, ее духов, знакомых с детства, они запоминаются потом на всю жизнь, и еще улавливал в ее дыхании запах джина, мартини... И все это происходило впервые, прежде я не видел таких подробностей во сне... Вот она выбегает из спальни, за спиной виден желтоватый свет. Ночь, потому что на мне красный халат в клетку и пижама. Мне лет десять-двенадцать, и впервые я отчетливо слышу ее голос...
Прежде во сне я не различал слов. Сны всегда были отражением того, что засело в памяти, я помнил: что-то произошло, а потом забыл или просто подавил это воспоминание... Слова ее доносились словно издалека, она звала меня, повторяла мое имя, Бен, Бен, послушай меня, пожалуйста, Бен... Голос матери умолял, послушай меня, я же отстранялся от нее, в этот миг она вовсе не походила на ту маму, которую я знал и любил, женщину, совершенную во всех отношениях. Эта женщина пила, и плакала, и сжимала в руке платок, она умоляла о чем-то, звала меня, что-то ее напугало, возможно, поэтому голос у нее такой странный, надтреснутый... Бен, не убегай от меня, пожалуйста, дорогой, не надо, послушай...
Она звала и тянулась ко мне так настойчиво, и я приблизился и почувствовал, как она ухватила меня за руку, и пальцы у нее были такие сильные и заостренные, как птичьи когти. Как когти у той птицы, что я видел давным-давно, тельце насажено на прут железной изгороди, я видел испуганные глаза матери. И все смешалось в этом сне: птица, изгородь, надтреснутый голос мамы, ее рука, похожая на птичью лапку, тонкие косточки, комок перьев... А потом птица ожила и била крыльями, пытаясь слететь с железного прута, она умирала, а крылья все хлопали, трепетали беспомощно, и лапы вцеплялись в изгородь, и потом вдруг произошла метаморфоза, и птица превратилась... почему, почему? Наверное, потому, что это сон, подумал я. Птица превратилась в мужчину, ноги его болтались в воздухе. Он был весь черный, как та умирающая птица, он тоже умирал, фигура мужчины, черная на белом фоне, и тут я понял, кто это... Он умирал, он уже умер, и тело его колыхалось на ветру...
Отец Говерно.
В яблоневом саду. Но ведь я там никогда его не видел.
Зато увидел во сне. Почему? Я понятия не имел. Черт, ведь это же сон! Сон и еще нечто большее.
А потом я вдруг услышал собственный голос: Священник в яблоневом саду...
Прежде я никогда и никому этого не говорил, даже маме, то была запретная тема. Но я стоял и кричал эти слова маме прямо в лицо, и из глаз ее так и хлынули слезы, горестно покатились по щекам, и казалось, что лицо ее уменьшается, тает, точно я на глазах терял свою маму... И тут вдруг я услышал ее голос:
Ты, ты... ты сделал это... ты во всем виноват... ты... с самого начала... ты, только ты... я ничего не могла поделать... было слишком поздно... ты сделал это... бедный священник...
А потом она повернулась, побрела в спальню, затворила дверь.
Я стоял в коридоре, было жутко холодно и темно. Я весь дрожал и проснулся в постели, в гостиничном номере в Риме, весь в поту, дрожащий и разбитый. Тридцать лет я мучился этим сном, все эти годы пытался расслышать хоть слово из того, что она говорит, силился увидеть и понять, что происходит.
И вот теперь понял все. Все узнал.
Лучше бы не знал.
Мама дала понять, что это я виноват в том, что случилось с отцом Говерно.
Все это как-то связано. Отец Говерно, Вэл, все остальное. Почему Вэл так вдруг заинтересовалась Говерно перед самой смертью?...
И разве я был тут виноват?
* * *Стук в дверь раздался часа в три ночи, и я лежал, пытаясь сообразить, снится он мне или нет. Потом поднялся и открыл дверь. На пороге стояла сестра Элизабет, как раз собиралась постучать еще раз. Я спросил, знает ли она, который теперь час.
— Неважно. А сколько сейчас?
— Три ночи. Начало четвертого.
— Ничего, не страшно. Как-нибудь переживешь. Дай же мне пройти.
На ней был плащ, промокший от дождя, на волосах блестели капли воды. Из-под плаща виднелся воротничок черной водолазки, на ногах туфли на резиновой подошве, тоже мокрые. Она проскользнула мимо меня в комнату. Впечатление такое, словно она спешит куда-то, но я знал, что оно обманчиво, просто она была страшно энергичная по природе своей.
— Зачем ты здесь? Что случилось?
— Не могу допустить, чтобы между нами и дальше продолжалась вся эта грызня и неразбериха. Нам надо поговорить, прежде чем все запылает синим пламенем. Весь мой мир рушится, Бен. Нет, нет, только не перебивай! Мы только что поссорились, и мне стало от этого еще хуже. Так что позволь объяснить, что я имею в виду. И не произноси ни слова, а лотом я задам тебе один, самый главный вопрос.
Я кивнул.
— Почва уходит из-под ног, я чувствую, прежняя моя жизнь кончилась. Думаю, что Вэл собиралась уйти из Ордена. Выйти замуж за Локхарта. Знаю, какие чувства она к нему испытывала, думаю, что те же, что и я к тебе... И меня это страшно тревожит. И моя вера в Церковь, похоже, разлетается ко всем чертям. Чего она стоит, эта вера, если Церковь творила такие дела?... Что произошло с нашей Церковью?