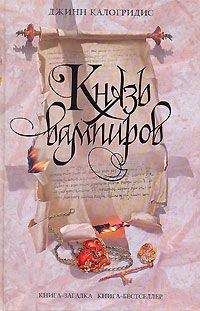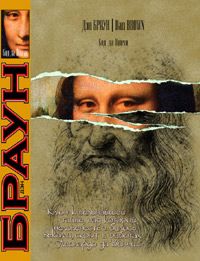Элизабет Костова - Историк
— Вот это особенно любопытно для меня, да и вас, я думаю, заинтересует. Мои биографии.
Все тома здесь так или иначе касались его жизни. Работы византийских и турецких историков — среди них редчайшие оригиналы и их переиздания на протяжении веков. Были здесь и памфлеты, изданные в Средние века в Германии, в России, в Венгрии, в Константинополе — с перечислением его преступлений. Многие из них оказались мне незнакомы, хотя я тщательно собирал материалы по теме, и во мне шевельнулось любопытство, но я сдержал его, напомнив себе, что у меня больше нет причин заниматься этим вопросом. Были здесь и многочисленные сборники фольклора, от семнадцатого века и дальше, содержавшие предания о вампирах, — мне показалось странным и страшным, что он настолько откровенно поместил их среди своих биографий. Дракула положил широкую ладонь на раннее издание романа Стокера и усмехнулся, но ничего не сказал. Затем он тихо перешел к следующему разделу.
— Вот это вам также покажется особенно любопытным, — заметил он. — Здесь у меня работы историков вашего века — двадцатого. Прекрасный век — я многого жду от его завершения. В мое время государям приходилось устранять нежелательных элементов по одному. Вы проделываете это широким взмахом. Какое усовершенствование — от проклятых пушек, разбивших стены Константинополя, к божественному пламени, которое ваша приемная родина обрушила недавно на японские города. — Он изящно поклонился мне, как властелин, поздравляющий с успехом царедворца. — Многие из этих работ вам, несомненно, знакомы, профессор, но теперь вы можете взглянуть на них под новым углом.
Наконец он снова пригласил меня сесть к огню, и я обнаружил у себя под рукой новую чашку горячего чая.
— Скоро и мне придет время подкрепиться, — негромко заметил он, — но сперва я хочу задать вам вопрос.
Рука у меня задрожала, как ни старался я удержать ее. До сих пор я старался говорить с ним как можно меньше и отвечал, только опасаясь разозлить его.
— Вы пользовались моим гостеприимством, какое в моих силах было вам предоставить, и моей безграничной верой в ваши способности. Вы, один из немногих, можете получить вечную жизнь. Вы получаете свободный доступ к лучшему архиву на земле. Вам откроются редчайшие труды, которых не найдешь больше нигде. Все это — ваше. — Он шевельнулся в кресле, словно его огромное не-умершее тело устало от долгой неподвижности. — Более того, вы человек несравненной одаренности, обладающий великолепной фантазией, достойной похвалы аккуратностью и глубиной суждений. Я многое приобрел, изучая ваши методы исследования, наблюдая за процессом обобщения информации и воображением ученого. Ради всех этих качеств, как и ради большой учености, которую они питают, я и перенес вас сюда.
Он снова помолчал. Я следил за его лицом, не смея отвести взгляд. Он же глядел в огонь.
— Вы, с вашей бескомпромиссной честностью, — продолжал он, — не можете не признавать уроков истории. История учит нас, что по природе своей человек зол — исключительно зол. Совершенство в добре недостижимо, но совершенство во зле достигается им. Почему бы вам не поставить ваш великий ум на службу тому, что ведет к совершенству? Я прошу вас, друг мой, по собственной воле присоединиться ко мне в моих исследованиях. Сделав это, вы избавите себя от больших мучений и значительно сократите мои усилия. Вместе мы продвинем историческую науку к невиданным миром высотам. Что может сравниться с яркостью живой истории? Для вас исполнится мечта каждого историка: история станет для вас реальностью. Мы омоем свои умы чистейшей кровью.
Только теперь он устремил на меня всю мощь своего взгляда, и его глаза пылали древней мудростью, а багровые губы приоткрылись. Сейчас я осознал, что лицо это поражало бы изысканным умом, если бы не несло такую страшную печать ненависти. Мне понадобились все силы, чтобы не сдаться, не броситься к его ногам, не отдаться под его руку. Он был властитель, вождь. Он не терпел непокорных.
Собрав всю любовь, какую испытал за свою жизнь, я заставил себя твердо произнести одно слово:
— Никогда.
Лицо его вспыхнуло, побледнело, ноздри и губы вздрагивали.
— Вы умрете здесь, профессор Росси, — сказал он, и я чувствовал, что он с трудом сдерживает ярость. — Вы никогда не выйдете из этой камеры живым, хотя в новой жизни вы сможете покидать ее. Согласившись, вы оставите за собой некоторое право выбора.
— Нет, — тихо ответил я.
Он поднялся, и в его улыбке была угроза.
— Тогда вы станете работать на меня против воли, — сказал он.
Тьма начала скапливаться перед моими глазами, но внутренне я еще держался — за что? Кожа у меня натянулась, и звезды вспыхнули перед глазами, на фоне полутемных стен. Он шагнул ко мне, и тогда я увидел его истинный лик: зрелище столь ужасное, что я не могу вспомнить его сейчас — я пытался. И больше я долго ничего не помнил.
Я очнулся в саркофаге. Снова было темно, и я думал, что вернулся в первый день, к первому пробуждению, пока не сообразил, что с первой секунды понял, где нахожусь. Я был очень слаб, гораздо слабее, чем тогда, и ранка у меня на горле сочилась и пульсировала болью. Я потерял много крови, но не так много, чтобы полностью лишиться сил. Через некоторое время мне удалось перевернуться, потом, дрожа, выбраться из своей клетки. Я помнил миг, когда потерял сознание. В свете негаснущих свечей я видел, что Дракула снова спит в своей гробнице. Открытые глаза блестят, как стекло, губы красны, рука на рукояти кинжала, — я отвернулся, ужасаясь душой и телом, вернулся к огню и попытался поесть. Накрытый стол ждал меня.
Как видно, он намерен уничтожать меня постепенно, до последней минуты оставляя открытым шанс, который предложил мне прошлой ночью: отдаться ему свободным, сознательным волеизъявлением. Теперь у меня лишь одна цель — нет, две: умереть, сохранив как можно больше себя, в надежде, что впоследствии нетронутая часть души сможет хоть немного сопротивляться ужасным деяниям не-умершего; и остаться в живых достаточно долго, чтобы закончить эти записи, которые, возможно, рассыплются в прах, никем не прочитанные. Только эти два желания поддерживают меня. Судьба моя слишком страшна, чтобы я мог плакать.
Третий день.
Я уже не уверен, который нынче день: мне начинает казаться, что, прошло несколько дней или что я проспал неделю, а может быть, уже месяц прошел со дня моего похищения. Так или иначе, это моя третья запись. Я провел ночь, осматривая библиотеку: не ради исполнения желания Дракулы, но в надежде, что полученные знания кому-нибудь пригодятся — хотя надежды нет. Однако записываю здесь, что по приказу Наполеона в первый год его правления были убиты два его генерала, о смерти которых, насколько я знаю, нигде больше не упоминается. Я успел также просмотреть краткое сочинение Анны Комниной, византийской принцессы, озаглавленное «Применение императором пытки для блага народа» — если я правильно перевел греческий текст. В разделе алхимии я обнаружил сказочно иллюстрированный том Каббалы, вероятно, персидский. На полках с собранием ересей я наткнулся на византийское Евангелие от Иоанна, однако начало текста в нем неверно — вместо света там говорится о тьме. Надо будет ознакомиться с ним внимательней. Еще я нашел английское издание 1521 года — датированное, под названием «Философия ужасного». Я считал, что это произведение, посвященное Карпатам, утрачено.
Я слишком устал и нездоров, чтобы изучить эти тексты так, как мне хотелось бы, как следовало бы, но, натыкаясь на новую находку, я каждый раз забываю о своем бессилии. Теперь мне необходимо немного поспать, пока спит Дракула, чтобы встретить новые испытания хоть немного отдохнувшим.
Четвертый день.
Мой разум начинает крошиться с краев, как старая бумага. Я теряю счет времени и забываю о своих находках в библиотеке. Я чувствую себя не просто слабым, а больным, а сегодня меня посетило новое ощущение, наполнившее отчаянием то, что осталось от моей души. Я просматривал архив Дракулы, посвященный пытке, и обнаружил отличное французское издание, описывающее новое изобретение: механизм, предназначенный для отделения головы от тела. В нем были иллюстрации: части машин и щегольски одетый человек, чью голову теоретически предполагалось отделить от тела. Разглядывая иллюстрацию, я, помимо удивления перед великолепной сохранностью книги, испытал вдруг острое желание увидеть эту сцену в действительности, услышать рев толпы и увидеть струю крови, заливающую кружевное жабо и бархатный камзол. Каждому историку знакомо желание пережить прошедшее в реальности, но это был новый, иной голод. Я отшвырнул книгу, уронил голову на стол и заплакал. Я ни разу не плакал за время моего заключения. По правде сказать, последний раз я плакал очень давно, на похоронах матери. Соленый вкус слез немного утешил меня — такой привычный вкус.