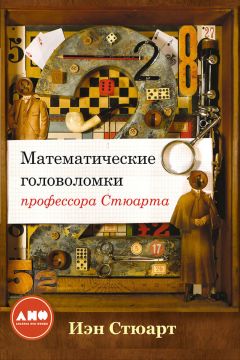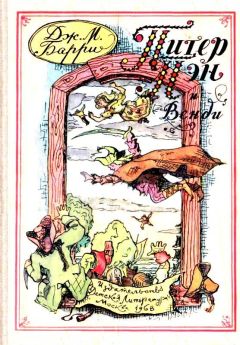Дэн Симмонс - Террор
Чтобы снять боль в горле, я давал капитану Фицджеймсу сироп из морского лука – дубильный отвар лекарственного растения, являющийся великолепным отхаркивающим средством. Но обычно эффективный препарат, похоже, не облегчал страданий умирающего.
Когда капитан Фицджеймс утратил способность двигать сначала руками, а потом ногами, я пробовал пользовать его перуанским кокаиновым вином – сильнодействующей смесью вина и кокаина, – а также костяным маслом – препаратом из рогов взрослого благородного оленя, имеющим запах аммиака, – и камфарной настойкой. Эти лекарственные средства, которые я давал капитану по половине дозы, зачастую задерживают развитие паралича и даже частично исцеляют от него.
Но в данном случае они не помогли. Паралич поразил все конечности капитана Фицджеймса. Он продолжал жестоко мучиться рвотой и, долго корчась от спазмов после каждого приступа, уже не мог ни говорить, ни объясняться жестами.
Но, по крайней мере, омертвение его речевого аппарата избавило людей от тяжкой необходимости слышать душераздирающие крики своего капитана, изнемогающего от боли. Но в последний долгий день я видел его страшные конвульсии и разверстый в беззвучных воплях рот.
Сегодня утром, на четвертый и последний день предсмертной агонии капитана Фицджеймса, легкие у него начали отказывать, поскольку паралич распространился на дыхательные мышцы. Он целый день страшно задыхался. Мы с Ллойдом – иногда при помощи капитана Крозье, который провел много часов рядом со своим умирающим другом, – часто усаживали Фицджеймса, или вообще поднимали с постели, поддерживая под руки, или даже водили по палатке парализованного человека, чьи неподвижные ноги волочились по мерзлой гальке, в тщетной попытке заставить работать его слабеющие легкие.
В отчаянии я влил в рот капитану Фицджеймсу настойку лобелии (индейского табака) цвета виски, представлявшую собой практически чистый никотин, и массировал ему горло голыми пальцами, чтобы жидкость прошла в пищевод. Это было все равно, что кормить умирающую птицу. Настойка лобелии являлась самым сильным стимулирующим средством для дыхательных органов, остававшимся в моей опустошенной аптечке, средством, в которое безгранично верил доктор Педди. «Оно воскресило бы и Христа на день раньше», – в подпитии частенько повторял Педди, поминая имя Господа всуе.
Но и она не помогла.
Не следует забывать, что я простой хирург, не терапевт. Я обучался на анатома и хорошо сведущ в хирургии. Терапевты прописывают лекарства; хирурги режут и пилят. Но я стараюсь распорядиться с наибольшей пользой запасами лекарственных препаратов, доставшимися мне от покойных коллег.
Самым ужасным в последний день жизни капитана Фицджеймса было то, что он все время оставался в памяти и ясно сознавал все, с ним происходящее – рвоту и жестокие желудочные спазмы, потерю голоса и неспособность глотать, распространение паралича и мучительное удушье в последние страшные часы. Я видел ужас и панику в глазах несчастного. Его рассудок нисколько не пострадал. Его тело умирало. Он ничего не мог поделать, чтобы облегчить свои невыносимые страдания, разве только умолять меня взглядом. А я ничем не мог помочь.
Порой я испытывал острое желание дать капитану смертельную дозу чистого кокаина, чтобы положить конец его адским мукам, но клятва Гиппократа и христианская вера удерживали меня от такого шага.
Вместо этого я выходил из палатки и плакал, предварительно убедившись, что поблизости нет никого из офицеров или матросов.
Капитан Фицджеймс скончался в три часа восемь минут пополудни сегодня, во вторник шестого июня, в год тысяча восемьсот сорок восьмой от Рождества Христова.
Неглубокую могилу для него уже выкопали. Камни для покрытия могилы уже собрали и сложили в кучу. Все мужчины, способные одеться и держаться на ногах, собрались на заупокойную службу. Многие из тех, кто служил под командованием капитана Фицджеймса последние три года, плакали. Хотя сегодня было тепло – от пяти до десяти градусов выше ноля, – с безжалостного северо-запада налетел ледяной ветер и слезы замерзали на бородах или шарфах.
Несколько оставшихся в живых морских пехотинцев дали залп в воздух.
С холма над могилой вспорхнула куропатка и улетела в сторону пакового льда.
Мужчины хором испустили громкий стон. Скорбя не о смерти капитана Фицджеймса, а об упущенной куропатке, которую можно было бы приготовить к ужину. К тому времени, когда морские пехотинцу перезарядили мушкеты, птица уже находилась в сотне ярдов от нас и далеко за пределами дальности огня. (И никто из морских пехотинцев не попал бы в птицу на лету с расстояния ста ярдов, даже если бы они хорошо себя чувствовали и не дрожали от холода.)
Позже – всего полчаса назад – капитан Крозье заглянул в лазаретную палатку и дал мне знак выйти к нему на мороз.
– Капитан Фицджеймс умер от цинги? – только и спросил он.
Я признался, что так не думаю. Он умер от какого-то более страшного недуга.
– Капитан Фицджеймс считал, что стюард, который стал прислуживать ему и другим офицерам после смерти Хора, травил его ядом, – прошептал капитан. – Такое возможно?
– Бридженс? – воскликнул я излишне громко.
Я был глубоко потрясен. Мне всегда нравился начитанный старый стюард.
Крозье помотал головой.
– Последние две недели офицерам с «Эребуса» прислуживал Ричард Эйлмор, – сказал он. – Возможно ли, что причиной смерти явился яд?
Я заколебался. Если бы я ответил утвердительно, Эйлмора точно расстреляли бы на рассвете. Кают-компанейский стюард был тем самым человеком, который в январе получил пятьдесят плетей за свое необдуманное участие в Большом Венецианском карнавале. Эйлмор также являлся другом и доверенным лицом тщедушного и порой коварного помощника конопатчика с «Террора». Эйлмор, как все мы знали, имел нрав мелочный и обидчивый.
– Вполне возможно, смерть наступила от яда, – сказал я Крозье менее получаса назад. – Но не обязательно от яда, который давали намеренно.
– Что вы имеете в виду? – осведомился Крозье.
– Наш оставшийся в живых капитан выглядел сегодня вечером таким изнуренным, что мертвенно-бледная кожа его буквально лучилась при свете звезд.
– Я имею в виду, – пояснил я, – что офицеры ели самые большие порции оставшихся у нас голднеровских консервов. В испорченных консервированных продуктах зачастую содержится яд неизвестного происхождения, но сильного паралитического действия. Никто не знает, что это за яд такой. Возможно, это какие-то микроскопические организмы, которые мы не в силах рассмотреть с помощью наших оптических приборов.
– Разве мы не унюхали бы запаха, если бы консервированные продукты испортились? – шепотом спросил Крозье.
Я потряс головой и схватил капитана за рукав для пущей убедительности своих слов.
– Нет. Тем-то и страшен данный яд, что он парализует сначала голосовые связки, а потом все тело. Его невозможно обнаружить или исследовать. Он невидим, как сама Смерть.
Крозье задумался на долгую минуту.
– Я прикажу всем воздержаться от употребления консервированных продуктов на три недели, – наконец сказал он. – Некоторое время нам придется довольствоваться оставшейся у нас соленой говядиной и дрянными галетами. Будем есть холодную пищу.
– Матросы и офицеры не придут в восторг от этого, – прошептал я. – Консервированные супы и овощи все же хоть мало-мальски напоминают нормальную пищу, необходимую в походе. Они могут взбунтоваться против такого сурового ограничения в столь тяжелых условиях.
Тогда Крозье улыбнулся. Странной, жутковатой улыбкой.
– Тогда я не всем прикажу воздержаться от консервированных продуктов, – прошипел он. – Стюард Эйлмор будет продолжать есть их – из тех же самых банок, из которых он накладывал Джеймсу Фицджеймсу. Спокойной ночи, доктор Гудсер.
Я вернулся в лазаретную палатку, обошел спящих больных, а потом заполз в свой спальный мешок и сел там, устроив на коленях свое портативное бюро красного дерева.
Мой почерк так неразборчив, поскольку я дрожал. И не только от холода.
Каждый раз, когда я начинаю думать, что хорошо знаю одного из матросов или офицеров, я почти сразу обнаруживаю, что заблуждаюсь. Медицинская наука никогда не проникнет в сокровенные тайники души человеческой, даже через миллионы лет прогресса.
Мы выступаем завтра до рассвета. Думаю, мы больше не будем делать остановок столь продолжительных, как двухдневная остановка на берегу бухты Покоя.
45
Блэнки
Неизвестная широта, неизвестная долгота
18 июня 1848 г.
Когда у Тома Блэнки сломалась третья по счету деревянная нога, он понял, что это конец.
Первая новая нога у него была просто загляденье. Вырезанная из одного куска твердого дуба и тщательно обструганная мистером Хани, искусным плотником с «Террора», она представляла собой истинное произведение искусства, и Блэнки любил хвастать ею. Ледовый лоцман расхаживал по кораблю на своей деревяшке, словно добродушный пират, но, когда Блэнки пришлось выходить на лед, он прикрепил к ней равно искусно вырезанную деревянную ступню. Подошва оной была утыкана великим множеством гвоздей и винтов – обеспечивавших лучшее сцепление со льдом, чем шипы на подошвах обычных зимних башмаков, – и одноногий лоцман, хотя и неспособный тащить сани, прекрасно поспевал за отрядом во время трехдневного похода от покинутого корабля к лагерю «Террор», а потом долгого пути на юг и теперь на восток.