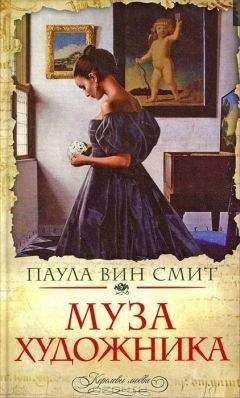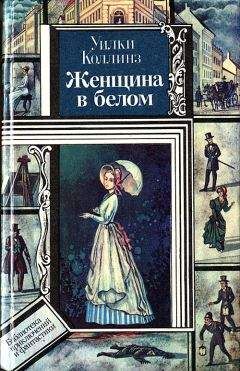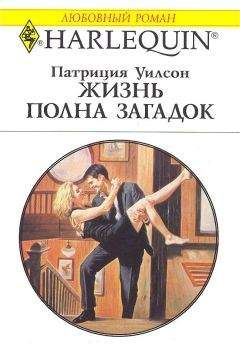Джеймс Уилсон - Игра с тенью
— Полковник может помнить какие-то семейные истории о Тернере, — продолжил он, — как и Хоксуорт Фокс из Фарнли, сын другого его покровителя и сам истинный любитель искусства и истинный друг Тернера.
— Могу я сослаться на вас? — спросил я осторожно.
— Конечно, — сказал он. — И сходите на Мэйден-Лейн; чтобы узнать Тернера, вы должны видеть, где он родился и вырос — Он нахмурился, словно ему пришла в голову новая мысль. — Вы сразу собираетесь вернуться в Лондон, мистер Хартрайт, после того, как мы здесь закончим?
— Да.
— Тогда, если хотите, я могу вас отвезти. Я еду на Ред-Лайон-сквер.
— Спасибо.
Он достал часы из кармана, посмотрел на них и кивнул.
— Но я должен предупредить вас, что мне надо готовиться, — сказал он, вставая и смахивая лепесток с рукава. — Так что я буду вести себя так, будто вас тут нет, и вы должны обещать не обижаться.
Мы двинулись вместе к дому, занятые каждый своими собственными мыслями, и дошли до газона, когда увидели, что к нам спешит слуга с тонким пакетом, завернутым в белый муслин, в руках.
— О боже, Кроули, — воскликнул Раскин, — что это такое?
— Пирс сказал, что вы просили это принести, — ответил тот, протягивая пакет.
Раскин посмотрел на него с мгновение, а потом сказал:
— Вы правы, просил. Положите его в экипаж; он развлечет мистера Хартрайта.
Он не преувеличивал; всю дорогу мы провели словно в разных мирах: он доставал предметы из коробки — куски стекла, яблоко, шар на цепочке — и сверялся в записной книжке или рисовал (очень красиво, должен заметить) розу на краешке страницы, пока думал; я сидел напротив него и сначала смотрел в окно, пока мы ехали по Воксхолл-роуд и через мост, а потом достал картину Тернера и развернул ее.
К моему удивлению, на ней был не мужчина, а мальчик, напряженные глаза которого прямо и с некоторой дерзостью смотрели из-под темных бровей. Нос у него был длинный и мясистый, а в рисунке полных неулыбчивых губ чудился намек на похотливость. Он был одет по моде семидесятилетней давности — в коричневом сюртуке и белом галстуке, тщательно завязанном на шее, а волосы его были аккуратно разделены посередине и расчесаны двумя крыльями. Сзади был написанный от руки ярлык: «Тернер в возрасте ок. 24 лет, автопортрет. Дар Ханны Дэнби».
— Кто такая Ханна Дэнби? — спросил я.
— Его экономка на улице Королевы Анны, — пробормотал Раскин, не поднимая головы.
Я снова посмотрел на картину. Меня уже и так нервировал разговор с Раскином, а сейчас я снова был смущен, потому что опять вместо того, чтобы углубить уже имеющиеся знания о нем, я обнаруживал совсем другую версию его жизни. Это был портрет не шута из рассказа Трэвиса, не славного парня Дэвенанта и не непонятого мученика Раскина. Это был кто-то совсем другой, кто словно бросал мне вызов своим загадочным автопортретом — предлагал разгадать его и заранее объявлял, что я проиграю. На мгновение меня охватило что-то вроде паники. Я сумел взять себя в руки, только когда рассудил: если он нарисовал себя в таком молодом возрасте, неудивительно, что портрет не похож на того Тернера, каким его запомнили позже.
Когда мы подъехали к Ред-Лайон-сквер, Раскин наконец оторвался от своих дел, закрыл коробку и сказал:
— Ну, здесь, мистер Хартрайт, нам придется распрощаться.
Я обернул картину тканью и протянул ему.
— Я покажу ее своим слушателям, — сказал он, — чтобы вдохновить их.
Кучер приоткрыл дверь; выходя за Раскином, я спросил:
— А есть другие его портреты?
— Очень мало, — сказал Раскин. — Он не любил, когда его рисовали. Кажется, он несколько раз ходил в фотостудию Майелла на Риджент-стрит. Можете разузнать там.
И вот мы расстались; он был уже на девять десятых в своей лекции, а я так задумался, что забыл поблагодарить его.
Всю дорогу домой мои мысли ходили ходуном; снова и снова я спрашивал себя:
«Что ты собрался сделать? Куда это тебя приведет? Что, если у тебя не получится?»
И я до сих пор не нашел ответа. Уже почти четыре утра, и, хотя я уверен, что не усну, мне необходимо лечь, иначе я никогда не смогу собраться с мыслями. Так что позволь мне закончить это письмо поцелуем и тем, что я знаю точно: я люблю тебя.
Уолтер
IX
Уважаемый сэр!
Отвечаю на Ваше письмо от 24 июля. Я уже сообщил свои краткие воспоминания о Тернере другому джентльмену, дальнейшее поведение которого, говоря прямо, убедило меня в необходимости сохранять молчание в будущем. Таким образом, боюсь, что я не смогу с Вами встретиться.
Искренне Ваш
Джордж Джонс
X
1. Спасибо, что встретились со мной, Вы очень мне помогли.
2. Написал лорду Эгремонту и мистеру Фоксу.
3. Сегодня, как Вы советовали, схожу в Ковент-Гарден (если дождь прекратится).
4. Если мне в будущем понадобится (а я в этом уверен) еще один разговор с Вами, могу я воспользоваться Вашим любезным приглашением?
XI
Дорогая моя!
Боже, ну сегодня был и дождь! Он лил без перерыва с рассвета почти до самого вечера. Это был не просто ливень, а настоящий библейский потоп, будто Бог устал от грязи и безобразия, которым мы наполнили Его мир, и послал второй потоп, чтоб смыть их. Зрелище это на мгновение внушило мне восторг пополам со страхом; ярость погоды сочеталась с обескураживающим письмом от Джонса (хотя оно было вызвано действиями Торнбери, я не мог не воспринять его как личный провал) и моими болезненными воспоминаниями о предыдущем дне — легко было решить, что все три события посланы некой высшей силой специально, чтобы помешать мне!
Вскоре, однако, я отбросил столь недостойные мысли (и не только потому, что я боялся насмешек Мэриан) и решил воспринимать эти события не как препятствия, а как побуждение к дальнейшему действию. Поэтому я занялся чтением и письмами, пока после четырех дождь не утих достаточно для того, чтобы я мог выйти из дома без риска немедленно промокнуть до костей.
Как показали дальнейшие события, лучше бы я был суеверным и весь день просидел дома.
Мэйден-лейн — узкая улочка между Ковент-Гарденом и Стрэндом. Должно быть, я проходил здесь сотни раз по пути в театр и из театра; но я должен со стыдом признаться, что до сих пор едва замечал ее существование. Четно говоря, место это бедное, унылое и облезлое, но при этом не полностью заброшенное — два-три дома еще сохраняют остатки респектабельности, словно обноски нарядов, унаследованных от богатых соседей на Бекингэм-стрит или Вильерс-стрит. Но сегодня днем она выглядела совсем уныло; дождь смыл все, что не успели продать, с прилавков рынка Ковент-Гарден, и компании детей сидели в канавах, терпеливо строя горки из грязи, старых капустных листьев и треснутых фруктов. Когда я приближался к ним, они поворачивались и смотрели на меня, а потом, когда я проходил мимо, молча возвращались к своей игре.
Я знал, что у отца Тернера была цирюльня на углу Хэнд-корт, но существовал ли еще Хэнд-корт, и если да, то какой из полудюжины мрачных узких проходов (втиснутых то тут, то там между домами под странными углами, будто в результате действий некого гигантского зубного врача) мог к нему вести, я не представлял. Пока я искал, кого бы спросить, мой взгляд упал на девочку лет двенадцати или тринадцати, стоявшую чуть в стороне от остальных.
— Добрый день, — сказал я.
Она уставилась на меня, но ничего не ответила. Глаза у нее, как я заметил, были большие, карие с янтарными искорками. Темные волосы спутались, а на щеке было заметно грязное пятно, но если бы ее отмыть, переодеть и посадить в любой гостиной на Харли-стрит или Беркли-сквер, ее бы сочли красивой, и она вызвала бы одобрение всех дам.
— Ты не скажешь мне, — спросил я, — где Хэнд-корт?
Она по-прежнему молчала, глядя на меня так, будто хотела понять по моему лицу то, чего не разобрала в моих словах. Наконец она вытерла руку о запачканный передник и ткнула потрескавшимся пальцем на мрачный проход на другой стороне улицы. Он был закрыт железными воротами, и за ними не было видно ничего, кроме ряда выцветших деревянных перекладин, которые в нескольких ярдах от нас растворялись в темноте.
— Это цирюльня? — спросил я, указывая на угловое здание.
Она слегка поколебалась, но все-таки нарушила молчание.
— Нет, сэр, — раздался ее тусклый усталый голос, — этот дом принадлежит Паркину.