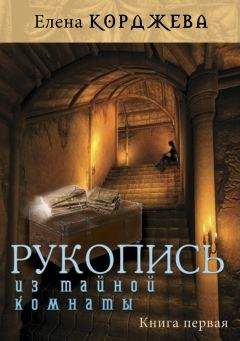Елена Корджева - Рукопись из тайной комнаты. Книга вторая
Утром, с зарей, за ними заехал Юрис. Посадив на подводу маму и Марту с дочкой, он вопросительно уставился на нерешительно топтавшуюся во дворе Густу. Та металась между долгом перед безвинно пострадавшим братом и двумя крохотными созданиями, едва появившимися на свет, которых она вынужденно то и дело бросает на произвол судьбы. Метания прервала мама. С подводы неожиданно прозвучал её хриплый и какой-то тусклый, но достаточно сильный, чтобы быть услышанным, голос:
– Тебе нельзя с нами, Густа! На тебе отец, ты одна умеешь уколы делать.
Решение, озвученное мамой, было правильным. Действительно, как она могла забыть? Кроме малюток в доме был отец, лежащий с забинтованной головой и хрипящий на весь дом. Нужно было остаться. А Кристап? С Кристапом она простилась позавчера, в сенях, где поместила его уже после того, как устроила на кровати папу и уложила маму. Кристапа очень жаль, но помочь ему она больше не может. Правильнее будет остаться, чтобы помочь живым – мама, как всегда, права.
Юрису довод про уколы тоже показался разумным. Кивнув на прощание, он пустил в ход лошадку, и вскоре повозка уже исчезла за деревьями.
Обратно они вернулись к обеду.
В окно Густе показалось, что с повозки слезает не два, а три человека, Не успела она удивиться, как повозка покинула двор, а в дом вошла Марта, крепко прижимавшая к груди до самого носа закутанную малышку и мама, поддерживаемая под руку пастором. «А пастор-то здесь зачем?», – мелькнуло в голове. Долго гадать не пришлось:
– Мир и благословение этому дому, – голос пастора прозвучал внушительно. – Вот, приехал дать тебе и Янису утешение. Как он?
И все обернулись к больному, лежащему на кровати. Папа был очень слаб. Густа хотела верить, что уколы помогают. И в самом деле, жар спал, и папа уже не метался по кровати, но почти всё время дремал.
Пока мама и Марта раздевались, а Густа, засуетившись, варила кофе и собирала на стол из того, что вчера принесли сердобольные соседи, пастор присел к кровати, и оттуда доносился какой-то тихий разговор. Слов за шумом чайника да перестуком посуды было не разобрать, да Густа не особо прислушивалась. Куда больше её беспокоило, не услышит ли пастор, если вдруг заплачет кто-то из малышей.
Спустя недолгое время разговор у постели закончился – папа снова уснул. Пастор неторопливо обвёл глазами комнату и остановился на Густе:
– Ну что, дитя моё, давай-ка, и мы с тобой побеседуем. Никогда я в доме вашем не был, но слышал, что есть у тебя своя комната. Вот и пойдём туда, поговорим.
Деваться было некуда. Врать, а уж тем более – пастору, Густа не хотела. Так что придётся открыть секрет. И с трудом поднявшись – тело нестерпимо болело – она распахнула дверь:
– Прошу вас, святой отец.
Едва они переступили порог, один из малышей заплакал. Густа уже приловчилась отличать более громкий плач Георга и тоненькое жалобное хныканье Эмилии. Имена детям дались как-то сами собой, Густа специально об этом не задумывалась. Просто в какой-то момент она обнаружила, что разговаривает с детьми, называя их непонятно откуда появившимися именами. «Как видно, Господь не только двоих деток от щедрот своих дал, но и сам нарёк», – Густа не стала больше задумываться над тем, откуда взялись имена.
Так вот, в этот момент Эмилия как раз заплакала. Пастор, заслышав плач, остановился, как вкопанный, в растерянности глядя на то, как Густа извлекает из-под вороха одеял крошечный комочек и прижимает его к груди. Девочка была маленькой, куда меньше Мартиной дочки. И то правда: этим пришлось тесниться в утробе вдвоём, да и родились недоношенными. Уже то, что оба младенца были живы и, несмотря на трагические события рождения, кажется, здоровы, уже было чудом.
Пока Густа убаюкивала младенца, пастор, судя по всему, пришёл в себя. Во всяком случае, он уже уселся на стул и терпеливо ждал, пока Густа накормит сначала Эмилию, а потом тоже проголодавшегося Георга.
Когда накормленные и переодетые малыши снова уснули, в комнате прозвучал вопрос:
– Так их двое у тебя. И когда же появились на свет?
Густа и сама не заметила, как рассказала обо всём. Пастор слушал, не перебивая, только время от времени задавая новый вопрос, и постепенно, словно разматывая клубок, Густа шла от событий позавчерашних, кровавых, к событиям прошлого лета с его жарой, беседкой и сумасшедшим запахом лилий.
Рассказ был окончен, и в комнате повисла тишина. Густа гадала, что же будет дальше. Она знала: ей должно быть назначено какое-то наказание: «Лишь бы только не велел детей в приют отдать. Если мне наказание, так пускай что угодно, я выдержу, только чтобы деткам не повредило».
Но пастор продолжал молчать. Немолодой уже человек – Густа помнила его с самого детства – сидел на стуле, задумчиво глядя куда-то внутрь себя.
– Надо же, как неисповедимы пути Господни, – наконец произнёс он. – Трудным путём ведет… Говоришь, фон Дистелрой предложение тебе сделал, невестой назвал? – Да, святой отец.
Пастор вновь задумался.
– Значит, суждено роду фон Дистелроев на этой земле продолжаться. Не простая у этого рода судьба, много на него Господь возлагает. Негоже нам Божьему промыслу мешать, расти деток, как положено. А подрастут чуть – и покрестим. Глядишь, ещё многое измениться может.
Густа никак не могла понять, в чем же будет наказание.
На прямой вопрос ответ прозвучал неожиданно:
– Тебе Господь немало испытаний даёт, дитя моё, силу твою испытывает. И нет нужды к делам Господним человеческое примешивать. Расти этих малюток, кто знает, какие цели им уготовлены.
Солнце, потихоньку садясь, уже добавило розовой краски на небо, и в окно была хорошо видна высокая фигура в длинной чёрной сутане, уходящая в пронизанную светом чащу.
9
Жизнь в доме потихоньку налаживалась.
Доктор, навестивший папу, снял швы, и на папиной голове больше не было бинтов. Был только красный большой шрам, уходящий под ставшие совсем седыми волосы. Но доктор сказал, что это не страшно, и со временем шрам побелеет сам. Больше доктора беспокоила не голова. Он долго слушал папино дыхание, но напоследок удовлетворённо выпрямился:
– Ну, вроде дело на поправку пошло. Но ты уколы пока продолжай, я через недельку к вам загляну.
Мама тоже больше не плакала.
Целыми днями она с остервенением ткала и ткала на станке, так и простоявшем впустую всю зиму. То, что станок был перекошен, её не остановило. Принеся из сеней мужнины инструменты, она, подстукивая то там, то здесь, каким-то образом сумела выровнять сложное сооружение и теперь ткала и ткала, прерываясь только на то, чтобы подоить корову.
Мешать маме ни Густа, ни Марта не стали – ткать лучше, чем плакать. Тем более что и им было чем заняться: как ни крути, а трое младенцев в доме создали немало хлопот. Да и весна неумолимо приближалась, и нужно было готовиться к посевной.
До самой осени было некогда перевести дух. Оказалось, что без мужской силы, да без лошади ох как трудно. Приходилось звать на помощь соседей. И как же пригодилось мамино ткачество, когда нужно было расплачиваться за распаханное поле и огород. А дальше – почти не разгибаясь, то сажать, то полоть, то поливать, то жать… На трёх парах женских рук держалась в этом году семья из семи ртов. И три маленьких ротика тоже требовали своей порции еды. Папа, к счастью, начал вставать. Выходить дальше двора сил у него пока не было. Но он честно старался присматривать за малышами, пока женщины пропадали в поле.
Густа потеряла счёт дням: светает, значит надо дать грудь малышам, потом – в поле, потом – опять кормить и, быстро перекусив то, что приготовила мама, снова – в поле. Вечером она падала замертво, чтобы с утра снова запрячься в работу.
Когда была убрана последняя свёкла, оказалось, что уже осень.
– А Микели-то завтра уже, – папа, оказывается, следил за календарём. – Петуха резать будем.
Густа, с детства помнящая ритуал с петухом, вдруг ясно поняла смысл праздника – конец работы. Конец этому тяжёлому изматывающему труду, когда каждый час в поле означал, что зимой на столе будет еда. Праздник по такому случаю был очень кстати.
В доме закипела работа. Скреблось и мылось, ставилось тесто на каравай, варился сыр. Папа прогулялся до опушки, чтобы нарвать рябины. По древнему поверью именно на рябину возлагалась обязанность хранить дом от мышиной напасти. И уже с вечера папа обстучал все стены ветками. А потом, как и полагалось, был зарезан петух, испечён каравай из трёх видов муки, и мясо, и сыр… Мама, оказывается, умудрилась подготовить к празднику моточек беленой шерсти, чтобы зима была тёплой, а папа разложил по блюдечку блестящие денежки. Всё было, как в детстве. Только не хватало Кристапа. Но на большой кровати лежали и агукали сразу три малыша.
Уже вечером перед сном Густа на минуточку вышла во двор. Над домом висел молодой месяц, в хлеву шуршали об стену боками корова и её молодая дочка, и время от времени всхрюкивала давно спящая свинья. Спали и птицы. А в амбаре надёжно хранилось то, над чем трудилась семья целое лето. Из дома шёл запах хлеба, и казалось, что жизнь наконец-то налаживается.