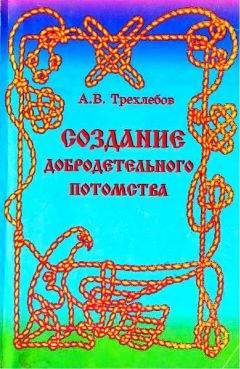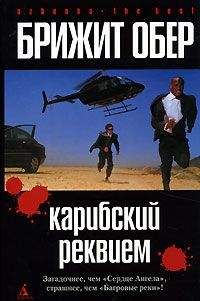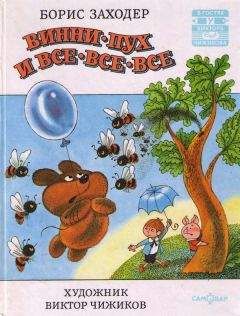Брижит Обер - Сумерки над Джексонвиллем. Лесной мрак
«Нужно спать» — хорошо ей так говорить, этой славной женщине: не к ней же среди ночи являются полностью свихнувшиеся комиссары полиции, вдобавок в тот момент, когда и суток еще не прошло с тех пор, как ее кромсали ножом… Вместо того чтобы так вот «шутить», ей бы следовало вколоть мне какой–нибудь хорошенький укольчик, от которого сразу же засыпают… засыпают, не чувствуя больше ничего… Когда я была маленькой и мне никак не удавалось уснуть, я представляла себе резиновый мячик: как он прыгает по коридору, потом — вниз по лестнице; я мысленно провожала его взглядом и невольно пускалась вслед за ним, постепенно соскальзывая в сон… сон…
Страшно болит голова. Я лежу в постели; сиделка только что умыла меня, подсунула под меня судно, сменила повязки. Она сказала, что на улице пасмурно и очень холодно. Раны мои, похоже, зарубцовываются совсем неплохо. Этот негодяй раскроил мне всю правую руку и правое бедро — неплохо раскроил: раны в добрый сантиметр глубиной. А на левом предплечье — том самом, которым я с размаху ударила его в лицо, — лишь небольшие царапины: тут он меня толком поранить просто не успел. Вообще–то боли в конечностях я совсем не испытываю: наверное, мне дают успокоительные средства.
Интересно: какого дьявола Иссэр вдруг ворвался ко мне в палату посреди ночи? Это здорово напоминает тот телефонный звонок Стефана — когда он внезапно объявил, что вынужден сбежать. Медсестра спрашивает, не включить ли телевизор; я поднимаю руку — хочется отвлечься от своих мыслей. Она долго переключает каналы — до тех пор, пока я не делаю выбор: научно–популярная передача, предназначенная для молодежи. Так, по меньшей мере, я получу хотя бы шанс узнать об этом мире что–то новое. С полчаса я внимательнейшим образом слушаю передачу, затем дверь в палату отворяется.
— Элиза! Ну, как у вас дела?
Иветта. Я поднимаю руку. Тут — откуда–то из–за ее спины — раздается еще один голос:
— Здравствуйте, Элиза.
Элен.
— Тебе уже лучше?
Виржини.
— Потише, Виржини, Лиз еще очень слаба.
Поль. Они пришли сюда — все трое. Паршивцы поганые. Господи, ну почему я вдруг награждаю их такими эпитетами? Понятия не имею: само собой как–то получилось.
— До чего же вы нас напугали! — говорит Элен.
— Тебе очень больно? — спрашивает Виржини.
— Довольно милая палата, здесь очень спокойно, — произносит Поль; по всей вероятности, он сейчас неловко переминается с ноги на ногу — так почему–то делают все мужчины, навещая кого–нибудь в больнице.
Я поднимаю руку — на всякий случай, дабы успокоить всех сразу.
— Я сказала инспектору Гассену, будто абсолютно уверена в том, что заперла дверь на ключ, а потом вспомнила, что меня в этот момент отвлек звук упавшей с дерева ветки… Вы же знаете, как дурно действует на меня такой сумасшедший ветер, — виноватым голосом замечает Иветта.
— А комиссар умер, — внезапно объявляет Виржини.
На какой–то миг у меня перестает биться сердце в груди.
— Виржини! — разгневанно одергивает ее Поль.
Иссэр мертв?
— Он скончался от сердечного приступа, вчера, около девяти вечера, в своей парижской квартире, — разбивая повисшую в палате напряженную тишину, поясняет Элен. — Об этом сегодня утром нам сообщил инспектор Гассен. Впрочем, с комиссаром мы встречались не так уж и часто — раза два или, может быть, три…
Все мое тело — с головы до пят — мгновенно леденеет. Если комиссар Иссэр скончался вчера около девяти вечера в своей парижской квартире, то кто же разговаривал здесь со мной в три часа ночи? Или мне все это приснилось?
— Следует заметить, что он вообще–то выглядел не очень здоровым человеком… — добавляет Поль. — К тому же было очевидно, что он слишком много пьет…
Иссэр? Но от него никогда не пахло спиртным… Интересно: что за люди сейчас со мной разговаривают? Они вполне реальны или так — очередная галлюцинация? Да и сама–то я — реальное существо? Моя рука судорожно сжимает простыню. Похоже, простыня вполне реальная. Моя рука. Она сжимает простыню. И я чувствую, как крепко сжата в ней эта простыня. Просто фантастика.
— Смотрите–ка: Элиза сумела сжать руку! — раздается ликующий голос Виржини.
— Нужно немедленно сообщить об этом Рэйбо. Сестра!
Иветта — в крайнем волнении — выбегает из палаты.
— Мне очень жаль комиссара, но в любом случае, по словам Гассена, работать ему оставалось совсем недолго. Через несколько месяцев он должен был уйти на пенсию. И, честно говоря, у меня сложилось такое впечатление, будто Гассена не совсем удовлетворяла его работа: похоже, он считает, что комиссар, как говорится, уже несколько «утратил хватку».
Иссэр? Тогда, выходит, ему было где–то под шестьдесят? И это с таким–то молодым голосом?
— Я велела медсестре как можно скорее сообщить о происшедшем доктору Рэйбо. Все эти ужасные истории совершенно выбивают всех нас из колеи, — тихо и грустно произносит Иветта. — Теперь еще и комиссар…
Такое впечатление, будто над нами нависло какое–то проклятие!
— Ну, вряд ли стоит сгущать краски; все образуется, иначе и быть не может; после полосы несчастий и злоключений всегда наступает некий поворотный момент, и все идет к лучшему, — заявляет Поль; в голосе у него явно звучат покровительственные нотки. — К тому же комиссар — совсем другое дело: в таком–то возрасте… Это вполне естественно — должно быть, работа вконец измотала его.
— И правда: усы у него были совсем желтые — он, наверное, к тому же еще и курил слишком много, — соглашается Иветта.
Но от него никогда не пахло табаком. Это совершенно невозможно. Они определенно говорят не об Иссэре, а о ком–то другом.
Я поднимаю руку.
— Да, Элиза? Вы хотите нам что–то сказать? — спрашивает Поль.
Я сжимаю и разжимаю кулак, размахивая при этом рукой. Я хочу карандаш! Бумагу и карандаш. Моя рука — непреклонная в своем движении, словно само правосудие — вдруг наталкивается на какие–то штуки, которые со страшным грохотом опрокидываются.
— Осторожнее! Лиз!
Звон разбитого стекла. Перешептывание посетителей: «Впала в нервное состояние… не следовало ей рассказывать о комиссаре… нужно позвать медсестру…»
Вот–вот: позовите ее, да поскорей! Черт возьми, но должна же я как–то понять, что такое происходит!
Появляется медсестра; что–то убирает, вытирает и делает мне укол.
— Вам нужно быть поосторожнее. Нельзя возбуждаться до такой степени.
В ее голосе я отчетливо слышу скрытую угрозу: «Иначе мы вынуждены будем вколоть вам хорошенькую дозу успокоительных».
— А теперь уходите; я полагаю, что ей необходимо побыть одной — она явно нуждается в отдыхе.
И они уходят — молча, словно на похоронах. Рука у меня болит. Я еще пару раз сжимаю и разжимаю кисть левой руки. Представляя себе, что сжимаю в ней шею того мерзавца, который искромсал меня ножом; на душе становится немножко легче. Если эта проклятая рука сумела бы удержать карандаш, я наконец обрела бы возможность по–настоящему общаться с людьми. Внезапно на меня накатывает усталость — наверняка укол подействовал… Чувствую, как невольно расслабляюсь, проваливаясь в сон…
Я просыпаюсь, снова засыпаю; мне снятся какие–то кошмары, от которых тело покрывается холодным потом; в результате, похоже, получаю дополнительную дозу транквилизаторов: судя по всему я уже дня два словно ватой окутана — все звуки доносятся до меня приглушенно, словно издалека. Смутно слышу, как чей–то голос произносит:
— Вам прислали посылку.
Посылку? Я не могу ее открыть, я слишком устала; интересно, который час? Ночь сейчас или день? Мне холодно. Мне жарко. Я хочу проснуться, пошевелить ногами, почесать пятку. Я хочу побегать! Чувствую себя абсолютно тупой. Хочется спать. Спать, и не видеть никаких снов. Спать.
Сегодня голова у меня более ясная. Я не сплю и веду себя очень спокойно: руку приподнимаю лишь в тех случаях, когда ко мне обращаются с вопросами, — и это, похоже, приносит положительный результат. Мне дают попить — много–много воды; меня усаживают в постели — с помощью подушек и специального ремня. Проделывают все необходимые процедуры против образования пролежней — к ним я давно привыкла и совершенно спокойно их терплю; по команде сжимаю и разжимаю ладонь, поднимаю руку. Меня ласково хвалят и наконец оставляют в покое. А я, собственно, тут же вновь погружаюсь в свои мрачные мысли.
Иссэр. Иссэр умер. Совершенно исключено. Ибо не мог он тут разговаривать со мной, будучи уже мертвым. В противном случае Виржини абсолютно права: мертвые бродят вокруг нас, внимательно за нами следя. И все умершие дети столпились сейчас возле моей постели, глядя на меня пустыми глазницами… И Бенуа — с перерезанным горлом… Он смеется надо мной; все они смеются… И Иссэр — длинный мертвец с длинными, как у пианиста, пальцами и мягким голосом. Нет, такое невозможно. Карандаш. Если бы только у меня был карандаш…