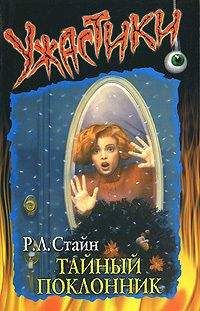Леонид Могилев - Черный нал
Ходить по чердаку нужно тихо-тихо. Бомжи бомжами, а бдительные жители верхнего этажа могут занервничать, а мне нужен полный покой и неторопливое течение мыслей.
Часа через два «москвичек» отбывает. «Ауди» остается в одиночестве. Потом на такси приезжает какая-то дамочка, входит в арку. И так далее и тому подобное. В десять вечера приходит молодой человек и уезжает на своем голубом красавце. Фонарь на месте, свет отчетливый. Я объявляю технический перерыв.
В Петербурге на вокзале я совершенно непроизвольно встаю в очередь за билетом на электричку до поселка, а когда вспоминаю, что это невозможно, усмехаюсь горько и нехорошо. Я мог уехать далеко, купить себе или снять какую-нибудь будку для житья, домик в дыре какой-нибудь, пожить там, а после все бы как-нибудь уладилось, прошло бы время, рассеялась тьма, ушли бы одни люди и появились другие. Только я вернулся на боевые позиции. Теперь мне необходимо было произвести разведку, решить со стратегией и тактикой. У меня, была одна надежда, один шанс. Дискетка. Узнать, что там на ней, — дело плевое. Можно было и в Боговыявленске найти какой ни на есть компьютер. Только если там номера накладных каких-нибудь и черный нал и более ничего, все оказывалось напрасным. Тогда я сяду в электричку, приеду в поселок, поднимусь к себе в квартиру. Ждать придется недолго. Вряд ли мне позволят принять ванну, сесть в кресло, включить телевизор, а впрочем, я не стану его включать. Просто буду сидеть и ждать.
С вокзала я отправляюсь на Моховую. В кафе все переменилось. Я не был здесь примерно год. Между «Бахусом» и пельменной отыскивается тихий уголок. Апельсиновый сок, кофе, сосиски, пирожное. Телефон-автомат напротив, он работает, жетон падает в щель. Гудок, изменение тона, другой гудок, второй, третий. У Птицы появился определитель номера. Наконец он берет трубку. А я кладу.
Здесь недалеко был прекрасный подвальчик. Все для Дома, хотите стройте, хотите ремонтируйте. Я покупаю ножовку по металлу, несколько полотен, большой гвоздодер и два хороших навесных замка. Еще мне нужен шпагат. В «Спорттоварах» на Невском я покупаю бинокль и спальный мешок, нож, фонарик. Уже рядом с домом Птицы в ларьке — большую банку армейской тушенки, шесть банок пива, батон, часы с будильником. В другом ларьке — приемник со спичечный коробок, наушники. И батарейки про запас.
…Музыка времени зла приходит ко мне из ночного эфира. Я вращаю колесико, нахожу новости, опять теряю их, ко мне вновь приходит невнятная музыка.
На этот раз я наблюдаю до двух часов ночи. Тишина. Птица, должно быть, спит, но вряд ли безмятежно. А может, мажет кисточкой по холсту. Или водит фломастером по ватману. Завтра у меня трудный день, и нужно поспать. Хотя бы часа четыре. Я вскрываю банку, густо намазываю на хлеб мясо, пью пиво, снимаю обувь, влезаю в спальный мешок. Сумка под головой, программа «Маяк» в эфире.
Утром Птица появляется на улице, идет, должно быть, в гастроном или в ларек. Возвращается минут через тридцать. Никаких топтунов мне увидеть не приходится. Это может означать, что никакого наблюдения за ним нет. То есть ни милиции, ни бандитам нет до скромного художника никакого дела. Они убедились, что дискетки у него нет, а я где-то далеко. Вот пойти сейчас вниз, войти в арку, подняться, позвонить. А там окажется, что наблюдение ведут из дома напротив и вообще кругом полно людей с телефонами. Передают художника друг другу надежно и основательно. Набор автомобилей примерно тот же, что и вчера, знакомых физиономий не обнаруживается. В три Птица выходит и опять возвращается, по всей видимости, с пивом. Мой «Хольстен» давно выпит, паек съеден, и, кажется, пора звонить. Я аккуратно снимаю замок, опускаюсь по лесенке вниз. Я спрятал на чердаке только бинокль. Все остальные предметы быта в сумке. Я сажусь в метро, еду на Московский вокзал, сдаю сумку в камеру хранения. Потом возвращаюсь, прохожу мимо наблюдательного пункта, не нахожу ничего необычного вокруг. Телефон-автомат за углом. Он не работает, как впрочем, еще два неподалеку. Наконец, кварталах в трех, в будке без стекол находится аппарат. Сейчас шестнадцать двадцать пять. Я набираю номер. Зуммер, другой. Птица снимает трубку.
— Как живешь, герой?
— Ты из Сочи звонишь?
— Из Карачи. Ты один?
— В данный момент один. Но приходить не советую.
— Ты помнишь, что я сказал напоследок? Молчание.
— Буду у тебя в семнадцать тридцать. — Теперь нужно повесить трубку на рычаг, очень быстро вернуться на наблюдательный пункт и не оплошать.
Когда я снимаю замок, открывается, дверь слева и высовывается любознательная голова. Потом дверь захлопывается. Я поднимаюсь наверх, навесив замок и повернув ключ. Чердаки здесь не сквозные, перегорожены кирпичными стенками. Если кто-то заинтересуется мной, то можно уйти через слуховое окно, спуститься в другое, сковырнуть еще один замок и выйти из другого подъезда. Можно блистально спуститься и по пожарной лестнице, но главное сейчас — смотреть. А смотреть есть на что.
Около соседнего с Птицыным дома останавливается «Волга» цвета кофе с молоком. Там четверо. Двое проходят во дворик. Одного из них я узнаю. Сейчас он в спортивной одежде с сумкой на ремне. Я кладу бинокль в полиэтиленовый пакет, прощаюсь со своим чердаком, снимаю замок, уже просто кладу его на пол, спрыгиваю вниз, на первом этаже останавливаюсь, восстанавливаю Дыхание и выхожу наружу. Не оборачиваясь иду к метро, но, не доходя, останавливаю такси и уезжаю.
Старику досталось по наследству немного книг от бывшего хозяина дома. Кое-что он притащил из воинской части. По этим книгам он учил русский язык. Они были исчерканы цветными карандашами. На полях сноси, выписки. После того как коридор закрылся, Старик впал в отчаяние. Он доставал из тайника пачку газет, необъяснимым образом оказавшихся в Союзе, привезенных еще Клеповым, перебирал их, гладил, долго перечитывал. Утром опять прятал. Газеты были на испанском, английском..
Была у Старика тетрадка. Лет пятнадцать назад он стал писать стихи. Не те, что в юности, пустые, звонкие, а другие, которые не суждено было прочесть никому более. Он писал вначале по-испански, затем попробовал переводить на русский, увлекся и однажды попробовал зарифмовать что-то про озеро и лес. Неожиданно ему понравилось. Через год он обнаружил, что исписал половину тетрадки на русском. Ямбы и хореи. Анапест и гекзаметр. Когда он будет уходить отсюда, он возьмет с собой в первую очередь эту тетрадку.
Вчера перед сном, выключив весь свет в доме, оставив только пятно настольной лампы, он перелистывал книгу русского поэта. Память у Старика была блистательной, и он мог прочесть любую строчку на любой странице почти точно, по памяти. Но увидеть глазами — это совсем другое дело. Когда осталось перелистнуть одну страницу, он помедлил… Буковки сливались в слова и строчки, строчки в строфы. «Как сорок лет тому назад, сердцебиение при звуке…»
…Сорок лет назад автобусы в Мехико никогда не останавливались. Часто приходилось довольно долго бежать, чтобы оказаться на деревянном сиденье, в тусклом чреве автобуса, среди темных силуэтов других пассажиров. Они договорились встретиться с Ильдой в кафе на одной из улиц, недалеко от бульвара Реформа. Было необъяснимо, почему автомобили и автобусы несутся с огромной скоростью во всех направлениях и не сталкиваются. Умонепостижимо… Этого слова не было в орфографическом словаре. Его старик нашел у другого поэта. Слово ему понравилось. Все это многолетнее сидение у водоема номер четыре являлось категорией умонепостижимой.
В самом центре Мехико сотни, а может быть, тысячи хиппи в непременных пиджаках на голое тело и соломенных шляпах слонялись без особой цели, курили травку, входили, выходили в часовни, у которых не было возраста, настолько они были древними, торговали распятиями. Булыжники, грязь, опять булыжники, рвы и бары.
И льда уже взяла столик. Рядом с ней стояли две пустые чашечки кофе и высокий стакан с аперитивом. Кофе здесь был бесподобным. В него добавлялись ром и мускатный орех. Они ели огромные бифштексы. Настолько огромные, что, казалось, Ильда никогда не сможет доесть свой. Но она, посмеиваясь, предложила заказать еще по одному. Старик тогда не знал, что в феврале появится Ильдита.
Мехико и не думал засыпать. Город наигрывал на флейточках и гитарах. Тортилья, кокосовый сок, прохлада, толпы проституток, ослепительный свет кафе и театриков. Утром он уезжал ненадолго в Грегорио. Городок будет сочиться солнцем, как этот вот бифштекс. А через день он вернется.
Старик закрыл книгу. Ночью к нему пришел Рауль Роа… Призрак. Если бы тогда они не встретились у Рикардо, расходящиеся тропки сада привели бы, возможно, в другую страну, в другое время, он бы, возможно, был сейчас большим человеком, директором, министром, писателем и не знал бы никогда, что существует водоем номер четыре. Старик поднялся со своего лежбища, двинулся к гостю. Как и всегда, воздух сгустился, стал плотным, а с другой стороны барьера ни малейшей помощи, ни шажка навстречу. Старик хотел сейчас сказать Раулю два слова, по-испански, выдохнуть заклинание. Но смог прошептать лишь: «Как сорок лет тому назад…» Потом он не выдержал напряжения, грудную клетку сдавила чужая недобрая сила, и он сделал шаг назад. Потом еще один. Потом лег и стал глядеть в потолок. Рауль еще долго стоял там, у стола. Призрак дождался, когда Старик уснет, переместился к кровати со стеклянными шариками, ненадолго склонился над Стариком, а затем коснулся холодной сферы над изголовьем, подержал ее в ладони и исчез. На следующий день Старик отправился играть в шахматы в часть.