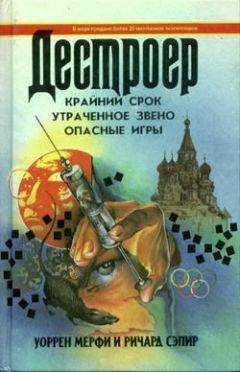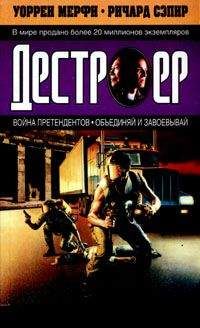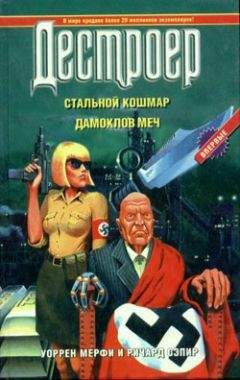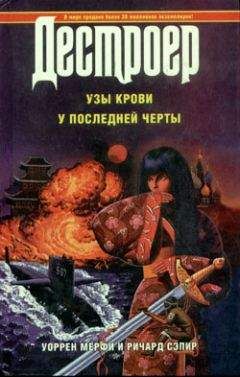Бранислав Нушич - Из «Записок»

Обзор книги Бранислав Нушич - Из «Записок»
Бранислав Нушич
Из «Записок»
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.[1]
ЛермонтовНовая жизнь вырастает на развалинах прошлого; погасли очаги, огонь которых так ревностно охраняли деды, погасли лампады, ежедневно мерцавшие возле икон во время молитв наших матерей. Раздвинулись стены наших домов, и то, что когда-то украшало их: мир, вера и любовь – проданы с аукциона, как подержанная мебель.
Мы стоим на пороге, на границе двух эпох, на стыке двух различных образов жизни: цивилизация идет на смену патриархальности.
Из нашего пепла родятся другие люди, с другими привычками, другими запросами и другими мыслями. Мы их чувствуем уже в себе, но мы еще далеко не то, чем будут они. Мы – дети своего времени – метисы, гибриды, а породим мы Гамлетов!..
Люди считают счастливыми тех, кто проспал это время, а я считаю глупыми тех, кто оплакивает его.
До нас было поколение, одухотворенное, идеями, решительное в поступках, самозабвенное в работе; за нами придет поколение, ни во что не верящее, во всем сомневающееся. И не кажется ли вам, что именно мы – то поколение, которое должно смеяться.
Так посмеемся же – ведь это единственное удовольствие, ведь и так мало на свете довольных. Вы спрашиваете, над кем смеяться? Прежде всего давайте посмеемся над собой; потом над теми, кто рядом с нами, потом над теми, кто выше нас, над теми, кто был перед нами и, наконец, над теми, кто явится после нас.
* * *Дорогая, последний раз вы от души смеялись в тот день, когда я объяснился вам в любви. Но ведь с тех пор прошло так много времени. Ах, если бы вы знали, как я изменился с тех пор! В основном, конечно, мои стремления остались прежними, я и сейчас люблю обеспеченный доход и жизнь без больших потрясений. Принципы мои тоже не изменились: я и сейчас люблю пиво без пены, жену без истории, о которой узнают обычно после свадьбы, и славу, за которую не надо расплачиваться жизнью. И все же, уверяю вас, госпожа, я очень изменился! Ведь прежде я объяснялся в любви только вам, а теперь послушайте, как я воркую.
Тебя, чудесная блондинка, и тебя, черноокий дьяволенок, и тебя, рыжая красотка, – всех вас, всех я люблю, но заявляю об этом открыто только потому, что давно уже решил остаться старым холостяком.
Когда-то, в древние времена, Калигула[2] воскликнул: «О, если бы все люди на земле имели только одну голову, чтоб я мог отсечь ее одним взмахом своего меча!» А я, я, как Гейне, восклицаю: «О, если бы все женщины на земле имели только одни губы, чтоб я мог поцеловать их всех сразу одним поцелуем!»
О, это весьма приятное начало, и из него видно, что я не хочу причинить вам никакого вреда. А именно это я и хотел констатировать. И теперь, когда мы окончательно выяснили, что я не желаю вам зла и что начало разговора у нас приятное, я могу, наконец, высказать вам то, что давно накипело у меня на душе.
Вероятно, вы уже заметили, что в своих записках я очень часто говорю о женщинах и, признаюсь, иногда говорю о них весьма ядовито. Конечно, я очень легко мог бы найти этому оправдание, если бы захотел быть неискренним с вами. Заметив малейшее неудовольствие в ваших прекрасных глазах (а это для меня хуже инквизиции), я приложил бы руку к сердцу, глубоко вздохнул, закатил глаза и сказал:
«Ах, дорогая, я так несчастлив в любви; а несчастье, как известно, порождает озлобление. И поверьте, все, в чем я обвинял женщин, только результат разлившейся желчи и оскорбленного самолюбия!»
Но, дорогая, хоть я и действительно несчастлив в любви, однако то, что я сказал, вовсе не продиктовано злостью. Нехорошо, конечно, говорить грубую правду в глаза, но пусть это вас не смущает. Сколько бы я ни старался очернить вас, ведь все равно вы останетесь такими прекрасными и очаровательными созданиями, что я в любой момент готов шептать вам на ухо слова искреннего раскаяния в своих прегрешениях.
Довольны ли еы, услышав от меня извинение за мой первый грех? Вспомните, ведь царям, писателям и женщинам прощаются все грехи, если они совершат хоть одно доброе дело. А мое доброе дело – это моя искренность. И в этом вы сейчас убедитесь.
Только уж разрешите мне до конца исчерпать представившуюся мне возможность и обратиться к вам с единственной просьбой: когда вы прочтете эти записки, прошу вас, пощадите меня и, оказавшись в обществе наших молодых критиков, не высказывайте своего мнения об этих листочках. Я потому умоляю вас об этом, что критик, как вы сами убедитесь впоследствии, непременно украдет ваши мысли. Да, да – украдет! Я уверен, что наши критики воруют мысли у знакомых женщин, и именно потому наша критика очень часто похожа на сплетни…
А теперь, дорогая, мне больше нечего вам сказать. Я снимаю перчатки и открываю первую страницу.
Das ist geschikter Kutscher,
der in einem engen Zimmer
gut umkehren kann.[3]
LambVolens-nolens,[4] не принимая во внимание ни день св. Дмитрия, ни день св. Георгия, я оставил свою прежнюю квартиру, которая отвечала всем требованиям санитарии и гигиены, ибо в ней не было ни хозяйки, которая надоедала бы вам своим ворчанием, ни соседки, которая бы надоедала вам своим расстроенным роялем и своей штампованной любовью, – квартиру, возле которой было столько грязи, что я не раз с отчаяньем восклицал: «О грязь сербской столицы, когда же твоя судьба будет решена отцами города!» Одним словом, я оставил свою квартиру и переехал в скромную обитель Пожаревацкой тюрьмы, в саду которой природа щедро рассыпала все своп богатства: соловьев, шулеров, стражников, убийц, журналистов, полицейских комиссаров, собак и т. д.
«Alea jacta est!»[5] – воскликнул Цезарь, переходя Рубикон, а я, переступая порог тюремной камеры № 7, сдержался и не произнес ни этой, ни какой-либо другой исторической фразы.
Сопровождавший меня булюбаша[6] пробормотал что-то, и кто знает, может быть он и произнес что-нибудь историческое, но я не расслышал.
Боже, что за человек этот булюбаша! Я бы очень охотно описал его вам, но такое описание составило бы целую книгу в десять печатных листов, а, к несчастью, у нас очень трудно распространить книгу, в которой более пяти печатных листов (я не говорю здесь о трудах, авторами которых являются начальствующие лица различных министерств). Пожалуй, будет достаточно сказать, что булюбаша был похож на огромный тюремный ключ. Как только я переступил порог камеры, этот огромный тюремный ключ запер за мной дверь ключом поменьше и пробормотал те самые исторические слова, которых я не расслышал.
Какому-то, должно быть, очень известному писателю принадлежит не очень известная фраза: «Человек – царь зверей». Меня, правда, никогда не прельщало положение царя зверей, но в тот момент, когда за мной захлопнулась дверь тюремной камеры, я совершенно ясно почувствовал, сколь безосновательны претензии человека на такое положение. О, как ничтожно это животное, имя которому – человек! Все то, что облагораживает человека как человека, люди давно уже обнаружили и у животных: и трудолюбие. и разум, и красоту, и честность, и искренность – все, все. А вот из того, что унижает и опошляет человека как человека, не все еще найдено у животных. И человек – такое слабое существо – претендует на звание царя зверей!
Я, не составляющий на этом свете и сотой доли той пылинки, которая, попав в часы, заставляет нести их в починку, я, слабенькое существо, когда первый раз за мной закрылась тюремная дверь, думал, что теперь там, на воле, все пропадет без меня: земной шар не сможет вращаться, солнце опоздает выйти на небо, часы не будут показывать время, и, представьте себе, думал даже, что все пойдет настолько необычно, что в конце концов отцы города решат вопрос об освещении и водопроводе. Все это давило и угнетало меня.
Я был почти готов запеть псалмы, как Давид,[7] перебирая вместо струн арфы прутья тюремной решетки: «Неужто уподобился я тем, кого в могилу кладут, и неужто иссякли силы мои!»
Но меня быстро утешил один заключенный, который, может быть, за то и был осужден, что умет так хорошо утешать. «Не убивайтесь понапрасну, сударь, – начал он, – я тоже думал, что без меня все остановится, но я вот уже два года сижу в тюрьме, а недавно получил письмо, в котором мне сообщают, что моя жена родила. Все в божьей власти. Бог даст, сударь, и без вас обойдутся!» Эти слова упали на мою взволнованную душу как капли благотворного дождя, и я почувствовал успокоение и склонил голову, как Клавдий Гюго.[8] Со всех сторон меня окружили мысли, они навалились – противоречивые, перепутанные, – и я сразу вспомнил о вас, о всех тех, кто сейчас читает эти строки, и заполнил первый листок своей записной книжки.