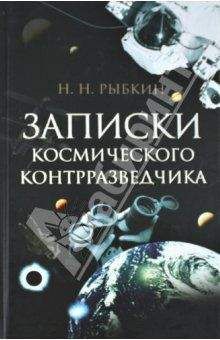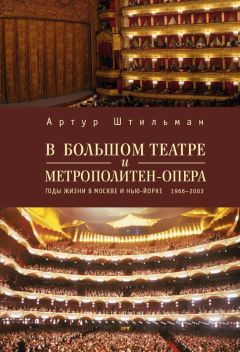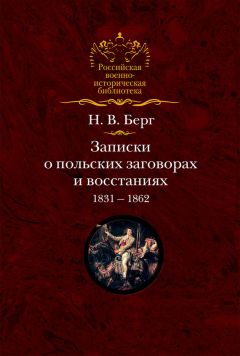Е. Григ - Да, я там работал: Записки офицера КГБ
А книги-то, что же книги? Да то же, что и все остальное. Книгоиздание в Америке, как и любое производство там, производит все.
О Бостоне, как и о любом крупном американском городе, можно рассказывать часами и описывать его в многотомных трудах. Вылизанные парки и аллеи центра, степенные особняки, надраенные бронзовые постукалочки на дверях, не давшие себя заменить электрическими звонками, автомобили прославленных европейских и американских марок, небрежно припаркованные около элегантных жилищ и слегка присыпанные осенней желтой листвой… Все это можно разглядеть, только неспешно прогуливаясь по городу, построенному и спланированному так, чтобы человек не чувствовал себя торопливым насекомым, пробирающимся между стеклянными утесами.
В Бостоне нужно быть осторожным с английским — если здесь поверят, что вы действительно хорошо его знаете, непредумышленно могут заговорить так, что вы поймете только местоимения и междометия (и то не все и не всегда). Непривычному уху бостонский английский представляется страшно пижонским языком.
В Бостоне мы дважды столкнулись с тем, что на языке дипломатов и спецслужбистов называется «провокация». Первый раз это была не вполне нормальная женщина, которая у наших стендов принялась громко требовать «свободы для Эстонии», и утихомирить ее не удавалось. Я попросил кого-то из ребят привести из вестибюля полицейского. Он привел молодого парня, который сделал короткое заявление в пользу освобождения Эстонии, сложил руки на груди и, улыбаясь, уставился на меня. Женщина продолжала кричать.
Так же улыбаясь, я, стараясь говорить с бостонским акцентом, сообщил ему, что выставка — часть правительственной программы обмена, и если он хочет и дальше оставаться участником демонстрации, то на следующий день может продолжить это занятие уже в штатском, и полицейской формы ему никогда уже не надеть… Паренек оказался на диво понятливым, перестал улыбаться и бережно вывел орущую даму на улицу. Вообще говоря, я боролся с искушением не мешать ей: у стендов — почти никого, было интересно, как долго она может кричать.
В другой раз местная еврейская организация якобы возмутилась надписью на одном из стендов с религиозной литературой: «иудаизм». Местные сионисты утверждали, что этот термин использовали в своих высказываниях и книгах нацисты, и грозили устроить демонстрацию.
Я узнал об этом за несколько часов до начала «акции». Вооружившись ножницами, краской и клеем, быстро переделал надпись, придав ей какое-то нейтральное звучание, и принялся ждать посетителей.
Ближе к закрытию библиотеки пришло человек шесть — руководитель вышеуказанной организации, огромный бородатый детина, красивая молодая женщина и несколько юнцов, один из которых решил добиться скандала во что бы то ни стало. Все были страшно разочарованы, что надпись переделана, даже смущены этим и поминутно оглядывались на двери входа, явно кого-то ожидая. Я-то хорошо знал кого — и точно, к моменту предполагаемого скандала появилась «пресса» в лице двух анемичных девиц, невнятно пробормотавших название какого-то печатного органа. Они внимательно вслушивались в любезную беседу бородача с нашими стендистами. В нее все время влезал упомянутый юнец, который принялся высмеивать мой английский, делая вид, что не понимает меня. Я разобиделся, сказал, что мой английский наверняка лучше его русского и вообще защищать интересы исторической родины, о которой он с таким пылом здесь шумит, хорошо там, в Израиле, а не приставать с этими вопросами к советским командированным. А то видали мы таких крикунов… Бородатый вступился за меня, укорил юнца, мы еще полчаса поговорили об антисемитизме в СССР и США и закончили диспут. Борцы за счастье исторической родины двинулись к выходу, а юнец — к телефону-автомату, на который он давно посматривал. Я, любопытствуя, последовал за ним и встал за колонной прямо у него за спиной.
Набрав номер, он тут же, не обращаясь по имени к собеседнику, начал говорить:
— Ничего не вышло, они переделали надпись, их предупредил кто-то…
— ?..
— Да были только две девки, больше никого…
— !!!
— Ну это ваши проблемы. Мы уходим, все кончилось уже…
Ну, прямо как у нас в годы застоя, подумал я, и двинулся обратно к стендам. До конца работы, то есть до закрытия библиотеки в 22 часа, оставалось еще много времени. На следующий день в какой-то маленькой газетке поместили безразличную заметочку о происшедшем, малопонятную. Американцы расставались с реалиями «холодной» войны с не меньшим трудом, чем мы. То есть не все американцы, а «те, кому надо»…
У своих стендов мы работали сменами, и в свободное время библиотечные активисты и все, кому это было интересно, занимались нами: например, возили выступать в учебных заведениях и исследовательских центрах с рассказами о нашей выставке, о жизни в СССР, о перестройке.
Я побывал в нескольких местах, которые в 5-м Управлении традиционно числились «идеологическими центрами противника», разговаривал и выступал перед советологами и кремленологами: фамилии многих я встречал в наших разработках и ориентировках… Народ был знающий, толковый, групповые фотографии Политбюро их давно перестали интересовать. Одних только кафедр по русскому и советскому литературоведению в США в то время было около 500. Что уж говорить об остальном…
Нас поражала, а потом стала даже надоедать горячая привязанность американцев к Горбачеву: сами-то мы уже начинали разбираться кое в чем и восторги наших хозяев не торопились разделять.
Из трех ведущих вузов — Кембриджа, Гарварда и Массачусетского технологического — мне посчастливилось побывать в первых двух. Да, в таких университетах только и воспитывать будущих президентов США. Лучше и короче о них не скажешь…
Лос-Анджелес, или, как американцы называют его по первым буквам, «Эл Эй», а еще — «Большой апельсин», — назвать городом не поворачивается язык. Это 500 квадратных миль, он больше Нью-Йорка, Чикаго, Сан— Франциско и Филадельфии, вместе взятых. Этот город зависит от техники больше, чем любой другой город мира, и автомобиль здесь — самое необходимое устройство. Без автомобиля Эл Эй погиб бы даже раньше, чем вся остальная Америка, как и без воды, которая доставляется сюда по трубам за сотни миль.
Для авиапассажиров и экипажей летающих тарелок ночной Эл Эй — зрелище, от которого невозможно оторваться. Это океан огней, беспрерывно меняющихся красок — окна домов, реклама, светофоры, фары и габаритные огни автомобилей. Калейдоскопу нет конца, он уходит за все четыре горизонта. Описанный тысячекратно бульвар Сан Сет — традиционный вечерний не людской, а автомобильный променад: вы можете здесь похвастаться новеньким экстравагантным автомобилем (автомобильный парк в Калифорнии — самый замысловатый в Америке), мотоциклом, который дороже половины автомобилей, спутником — красавицей или красавцем, умопомрачительной прической, макияжем, одеждой. Многие автомобили — конвертибл — открытые, чтобы все это было хорошо видно. Длина Сан Сета — миль 40, по нему можно часами ездить, никуда не сворачивая и глазея по сторонам.
Если у вас в городе есть знакомые, вас обязательно повезут в район Беверли Хиллз и, благоговея, покажут особняки кинозвезд и американской «номенклатуры» — продюсеров, банкиров, юристов. Беверли Хиллз вылизан, много зелени, тишина, поют птички, чуть ли не за каждым углом вдоль домов медленно двигается полицейский автомобиль. Порядок здесь берегут так же трепетно, как у нас вокруг «номенклатурных» комплексов. По лужайкам и газонам, не торопясь, бродят негры с заплечными пылесосами — засасывают в широкие трубы осенние листья и редкий здесь мусор.
Как-то раз на улице услышал женский визг — привлекательная, элегантно одетая негритянка то ли потеряла что-то, то ли ее обокрали — собралась небольшая толпа, к которой я примкнул, деля с жителями Эл Эй их повседневные радости и печали. Из небытия мгновенно возникла женщина-полицейский, хмуро начала расспрашивать потерпевшую. Та продолжала громко кричать, слезы текли по щекам, размывая тщательно наложенные краски и блестки. На трехколесном мотоцикле подъехал другой полицейский — метров двух роста, широкоплечий красавец. Он тоже достал блокнот, слегка оттер плечом свою коллегу и широко улыбнулся потерпевшей, протянув ей белоснежный носовой платок. Это одновременно была улыбка мужа, любовника, деда и отца — но не экранная, а искренняя, настоящая, она произвела чудо, каких я мало видывал в своей практике человековедения.
Имущественное начало в негритянке мгновенно растворилось в ее женской сути, и через 5 секунд она, утирая слезы полицейским платком, уже нежно ворковала, что-то диктуя Аполлону в сержантской форме и пытаясь заглянуть ему в глаза с явной надеждой найти в них совсем не то, что у нее украли…