Душан Калич - Подвиг (Приложение к журналу "Сельская молодежь"), т.6, 1985 г.
Доктор Краус, сидевший ближе к открытому окну, молча проследил за уходом с полянки Фреди и терпеливо продолжал смотреть в том же направлении, словно чего-то ожидая. Увидев Мюллера, широко шагавшего сквозь кустарник, он обратился к Шмидту:
— Вы считаете, этот ваш Железный Мюллер в самом деле надежный человек?
Шмидт очнулся от дремоты, повернул голову и, не открывая глаз, сонно пробубнил:
— Герр доктор, сегодня вы задаете мне этот вопрос второй раз... Мюллер пять лет служил под моей командой. Неужели вам этого мало?
Краус промолчал. По его бледному, длинному лицу с круглыми блекло-голубыми глазами и тонкими губами, на которых словно бы от рождения застыла двусмысленная ухмылка, было невозможно угадать, был ли он удовлетворен этим ответом Шмидта. После долгой паузы, в продолжение которой он разглядывал свои холеные руки, Краус неожиданно, хотя все таким же ровным голосом, произнес:
— Мюллер ушел с Хольцманом... — Шмидт сначала только открыл глаза, а затем лениво приподнялся с кресла.
— Но, герр доктор, вот вам случай убедиться, насколько он надежен, — сказал он, потянувшись за бутылкой с коньяком. Налив обоим, он пододвинул Краусу бокал и поймал его взгляд. — Я думал, что оказал вам услугу, взяв с собой этого молодого ассистента. Сейчас, должен вам признаться, своим решением убрать его вы меня смутили... Естественно, я не жду объяснений... Прозит, герр доктор! — добавил он, поднимая бокал.
Краус поддержал тост, но не выпил, а лишь поднес бокал к губам и ответил холодным монотонным голосом:
— Вы удивляете меня, дорогой Шмидт... Неужели вы серьезно думаете, что я могу иметь какое-то лучшее объяснение своего решения, чем то, которое мы вместе, насколько я помню, слышали от рейхсфюрера эсэс? — Сделав короткую паузу, он продолжил, не меняя голоса: — Признаюсь вам, в какой-то момент я находился перед искушением. Я пытался думать о других решениях...
Шмидт многозначительно усмехнулся и чуть кивнул, в то время как про себя ликовал, что вынудил заговорить рафинированного и лицемерного Крауса.
Тот заметил усмешку и терпеливо ждал, пока снова поймает взгляд Шмидта. Затем, словно ничего не произошло, продолжил свою маленькую исповедь:
— Тогда я вспомнил предостережение Гиммлера о том, что многие из нас при стечении определенных обстоятельств могут оказаться перед большими искушениями... Это мудрая мысль. Следует признать, весьма мудрая... Не правда ли, герр гауптшарфюрер? — Он помолчал немного, но не в надежде услышать ответ, а чтобы вновь поймать взгляд маленьких бегающих глаз Шмидта. Стараясь оставаться спокойным, закончил прежним тоном: — Если рейхсфюрер эсэс заботится о будущем избранных и после проигранной войны, их долг — придерживаться его указаний и наставлений.
— Вы имеете в виду... — начал Шмидт и, не кончив мысли, медленным движением головы показал на открытое окно.
Краус понял его. Он хотел ему до конца признаться, что Фреди Хольцман и был тем искушением, о котором говорил рейхсфюрер эсэс, и без колебаний ответил:
— Да, речь идет о моем ассистенте. Если Мюллер выполнит ваше приказание, я, признаюсь, буду избавлен от этого маленького искушения...
Довольный ответом, Шмидт посмотрел на Крауса с полным пониманием. Гася в своих глазах вспышку злорадного ликования, он размышлял, сказать ли, что это признание было необходимо ему лишь для того, чтобы откровенно заговорить и о некоторых своих искушениях. Считая, что в самом деле настал тот миг, когда он может открыть свое сердце... Полный решимости, он взглянул Краусу в глаза, однако не рискнул сказать ни слова. С открытым ртом он оставался нем, по выражению глаз Крауса ясно понимая, что тот сейчас читает его мысли, торжествуя в той же степени, как и он сам, когда только что вынудил его исповедаться в своих слабостях. Краус, не скрывая улыбки, пристально вглядывался в глаза Шмидта, наконец, дождавшись признания, что они поменялись ролями, бесцеремонно сказал:
— Я бы хотел знать, какое решение примете вы в случае с Мюллером, герр Шмидт, и притом не нарушив клятвы, данной вами Гиммлеру.
На застывшем лице Шмидта лишь поднялись тонкие, аккуратно подправленные брови. Краус откровенно метил в слабое место. Сейчас он хотел услышать признание Шмидта, насколько тот привязан к Мюллеру. В голове его запечатлелся последний приказ Гиммлера с инструкциями об уничтожении оставшихся в живых узников концентрационных лагерей и всех улик, которые могли бы свидетельствовать, что эти лагеря в самом деле были фабриками смерти. И из этой инструкции, хотел он этого или не хотел, перед глазами яснее ясного стоял параграф, на который было нацелено жало Крауса: «...Эсэсовцы, служившие в специальных командах концентрационных лагерей, могут в большей мере оказаться нежелательными свидетелями, чем оставшиеся в живых заключенные...» И здесь мысль Шмидта застопорилась. Так как того и добивался Краус, Шмидт оказался спровоцированным. Он беспомощно всматривался в отблеск круглых стекол очков, сквозь которые его пронзительно разглядывали холодные глаза доктора. Между тем поразил его голос Крауса, полный дружеского участия. Сняв очки, чтобы вытереть пот с носа, тот сказал:
— Напрасно вы напрягаетесь, дорогой мой Шмидт. Другого решения не существует. Чтобы у вас в дальнейшем не оставалось иллюзий, сообщу вам, что мне сказал Цирайс... — Краус помолчал, водворяя очки на место, и скороговоркой добавил: — Мюллер и его люди сопровождают нас лишь до виллы. Оттуда мы будем двигаться иным способом...
Где-то далеко в лесу послышалась короткая автоматная очередь. Краус закрыл глаза и рывком осушил бокал. Лихорадочно передернувшись, он громко выдохнул и расслабленно откинулся в кресле.
— Цирайс мне не сказал, когда мы двинемся дальше... — произнес он задумчиво.
Шмидт посмотрел на него отсутствующим взглядом, поднялся с кресла и, с безвольно опущенными плечами, встал у окна, дожидаясь возвращения своего верного Мюллера.
IVБыл уже полдень, когда Мигель и его товарищи достигли первых домов на окраине Сант-Георга, городка, расположенного в зеленой долине, по которой проходило шоссе, а рядом с ним горная речушка шумно устремлялась к Дунаю.
Грузовик миновал узкий мост с бетонным парапетом и остановился неподалеку от дома в глубине большого двора с выложенными плиткой дорожками, которые вели к мраморной лестнице и дальше, за ограду из кованого железа, к уже цветущему яблоневому саду.
Саша и Анджело переглянулись, сквозь запыленное ветровое стекло всматриваясь в красивый дом. Положив руки на руль, Саша кивнул в сторону дома:
— Видишь, дорогой мой... А где-то руины... — Он хотел что-то добавить, но осекся.
Анджело не шевельнулся. Он понимал своего друга, понимал и его боль, и сдерживаемый протест, равно как и невысказанное желание мести, желание видеть в огне эти дома и слышать вопли и плач здешних женщин и детей. Заглушая и в себе чувства, вызванные ненавистью, он не сказал другу ничего, даже не посмотрел на него. Он боялся, как бы в его взгляде тот не прочел ответного чувства, а объединившись, их чувства превратились бы в безудержное бешенство. Прилагая все усилия, чтобы отогнать мрачные мысли, Анджело сидел и молча смотрел на куст зацветающих роз.
Облокотившись на кабину, Зоран задумчиво оглядывал маленькую площадь с бездействующим фонтаном, закрытыми лавками и пустыми тротуарами. Ожидая появления хоть какого-нибудь живого существа, с сомнением покачивая головой, он, однако, не высказал своих мыслей.
Жильбер и Фрэнк смотрели на реку, на стоявшие вдоль берега аккуратные дома с балкончиками и террасками, полными цветов, — все это отражалось в зеленой воде.
— Тебя смущает эта красота? — спросил Жильбер.
Фрэнк машинально кивнул. Он и не думал скрывать своей растерянности перед тем, что открылось ему в этой стране, куда, он мог это сказать с полным правом, он упал буквально с неба. До тех пор он смотрел на нее издали и с высоты, зная только, что страну эту надо немилосердно бомбить. Порой, летая, он размышлял о том, что произойдет, если однажды его самолет подобьют и он окажется на этой земле, — он был уверен, что ничего, кроме того, о чем ему известно из положений Женевской конвенции об обращении с военнопленными, его не ожидает. Он понимал, что неизбежно увидит ее более или менее отталкивающее обличье, и считал логичным, если неприятель встретит его не с распростертыми объятиями. А постигло его такое, чему он прежде не хотел верить, полагая, что в пропаганде воюющих стран всегда хватает преувеличений. Между тем, стоило ему приземлиться и воочию оказаться лицом к лицу со страшными истинами, он, к сожалению, должен был признать, что вся пропаганда против нацистской Германии бледнела перед подлинной трагедией, открывшейся ему.
Жильбер, снова заговоривший, помог ему упорядочить свои мысли и вернул к реальности.

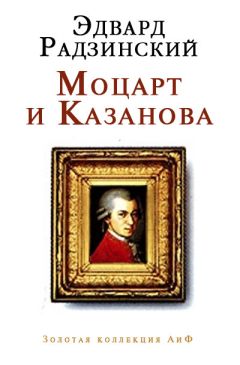
![Василь Быков - «Подвиг», 1989 № 05 [Антология]](/uploads/posts/books/147491/147491.jpg)

