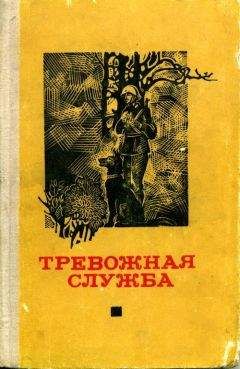Р. Шулиг - "Белые линии"
Только Ева Моулисова ни на кого не обращала внимания. Задумчиво сидела она на стуле, молчаливая, погруженная в себя, в свои тоскливые мысли.
От имени всех заговорил Ян Водваржка, и в его словах прозвучали ирония, ненависть и торжество тех, кого вызвал сегодня сюда Земан:
— Так что? Закончим эту комедию?
Он произнес это с такой развязностью и наглостью, что подавленность Земана сразу же исчезла. Он поднял голову и вопреки собственному благоразумию выкрикнул:
— Нет! Будем продолжать! Все по местам! Пан Сганел, давайте другую песню!
Его голос прозвучал так властно, что люди подчинились ему безропотно.
Сганел дал команду:
— Свет!
Зажглись прожекторы и лампы на столах.
— Музыка!
Оркестр заиграл вступление к другому куплету Евы, танцовщицы опять закружились.
Ева Моулисова, однако, не реагировала и все так же безучастно сидела на стуле.
Сганел просящим голосом в микрофон окликнул ее:
— Евочка, пожалуйста!..
Ева Моулисова медленно встала, движением руки, как бы отмахиваясь, сделала знак музыкантам замолчать и невыразительно, равнодушно, без пафоса проговорила:
— Перестаньте... Это действительно все только комедия... — И, кивнув в сторону Земана, продолжала: — Но не его... Это наша комедия, которую все мы здесь для него играем... Он единственный из всех имеет волю и мужество защищать правду... — Она повернулась к Данешу: — Ты, Павел, наверное, еще больший прохвост, чем я думала... И он прав в том, что хочет тебя наказать... Только, — она повернулась к Земану, — вы напрасно думаете, что Павел способен на что-то большее, чем врать, обманывать людей и красть! В тот вечер... стрелял не он! Тогда... стреляла... я! После того что он здесь сказал, мне не хотелось жить!
Земан резко встал, пораженный услышанным, и скорее себе, чем ей, возмущенно бросил:
— Боже... что за комедия!.. Все вы шуты... комедианты... клоуны!
Он забрал свои вещи и вышел...
Стоял ноябрь 1967 года.
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЗЕМАНА
Темные своды костела даже днем сохраняли некую мистическую таинственность, подавляя одинокого случайного путника своей мощью и строгими готическими формами. Увидев в туманной дымке возле алтаря какие-то странные мерцающие огоньки, наш случайный путник услышал вдруг в пустом зале храма голос. Он доносился откуда-то из темной глубины, приглушенный, усиленный резонансом. Голос скорее таинственно шептал, чем читал, проповедь:
— «Вдали, на главном алтаре, большим треугольником горели свечи. К. не мог наверняка сказать, видел ли он их раньше. Может быть, их только что зажгли...»[28]
Путник тихо двинулся по сумрачному залу храма в надежде найти этот таинственный голос. Он почти на ощупь шел в конусе скупого света, заглядывая в темные укромные уголки, где с ужасом обнаруживал причудливые, со страдальческим выражением лица, фигуры святых. Но они олицетворяли собой больше смерть, грусть и скорбь, нежели жизнь.
И снова донесся голос:
— «Когда К. случайно оглянулся, он увидел, что неподалеку от него, у одной из колонн, горит высокая толстая свеча. И хотя это было очень красиво, но для освещения алтарной живописи, размещенной в темноте боковых приделов, такого света было недостаточно, он только усугублял темноту...»[29]
Храм казался безлюдным и пустым — тем таинственней был голос, который сопровождал путника. Возможно, он принадлежал священнику или церковному сторожу, бог их знает, путник их не нашел. Как говорит Франц Кафка, церковные сторожа вкрадчивы от природы, всегда трудно заметить их появление.
— «К. прошел к одной из боковых капелл, поднялся на ступеньки к невысокой мраморной ограде и, перегнувшись через нее, осветил фонариком картину в алтаре. Лампадка, колеблясь перед картиной, только мешала. Первое, что К. отчасти увидел, отчасти угадал, была огромная фигура рыцаря в доспехах, занимавшая самый край картины. Рыцарь опирался на меч, вонзенный в голую землю, лишь кое-где на ней пробивались редкие травинки...»[30]
Наконец путник нашел то место, откуда доносился голос. Он обнаружил большую свечу впереди, у столба, и под ней того, чей голос минуту назад он слышал. Это был актер, одетый в черное старомодное одеяние, с книгой в руках.
— «К., уже давно не видавший картин, долго разглядывал рыцаря, непрестанно моргая от напряжения и от невыносимого зеленоватого света фонарика. Когда он осветил фонариком всю остальную картину, он увидел положение во гроб тела Христова...»[31]
Артист был не один. Возле него стояли молодая женщина в несколько экстравагантном костюме и респектабельный пожилой мужчина с тронутыми проседью висками. Это были Дагмар Неблехова, теперь уже редактор телевидения, и профессор университета Голы. Неблехова негромко, с почтением к тому месту, где они находились, спросила пожилого мужчину:
— Что вы на это скажете, пан профессор?
И Голы так же тихо ответил ей:
— Да, мы в храме, который так колоритно описывает в своем наиболее сильном, гениальном произведении писатель Франц Кафка. Я, в отличие от некоторых ученых в области литературы, убежден, что прообразом храма в произведении Кафки был не храм святого Вита в Пражском граде, а именно этот костел, в котором мы в данный момент находимся, Тынский собор.
— У вас есть для этого какие-то основания?
— Конечно. Франц Кафка родился в 1883 году как раз здесь, на Староместской площади. Его отец держал магазин с текстильными товарами. Жили они в доме, который стоял по соседству с Тынским собором. Более того, комната, в которой жил Франц Кафка в детстве и юности, имела одно окно, из которого открывался изумительный вид. Оно было обращено непосредственно к собору. Следовательно, Франц Кафка днем и ночью, когда просыпался, смотрел через это окно в глубины и таинственный полумрак этого красивого готического собора.
— Может быть, именно поэтому в его творчестве столько странных, фантастических явлений и ситуаций, всевозможных таинственных, зашифрованных подтекстов, мистики? — задумчиво произнесла Неблехова.
Голы с чувством превосходства усмехнулся:
— Вы ошибаетесь. Его творчество довольно своеобразно, но это вовсе не бред больного человека. Оно вполне реально, и более того, настолько реально и злободневно, что даже мороз подирает по коже. Послушайте, как, например, начинается его роман «Процесс».
Актер поднял книгу и прочитал:
— «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест...»[32]
Профессор Голы остановил его движением руки и прокомментировал:
— Да, вот так конкретно начинает Кафка свой роман. А его герой Йозеф К. о своем аресте потом рассказывает судье...
Актер перевернул несколько страниц и прочел:
— «Рано утром меня захватили врасплох, еще в кровати, возможно, что отдан был приказ — судя по словам следователя, это не исключено — арестовать некоего маляра, такого же невинного человека, как и я, но выбор пал на меня. Соседнюю со мной комнату заняла стража — два грубияна. Будь я даже опасным разбойником, и то нельзя было бы принять больше предосторожностей. Кроме того, эти люди оказались вконец развращенными мошенниками, они наболтали мне с три короба, вымогали взятку, собирались под каким-то предлогом выманить у меня белье и платье, требовали денег... То, что со мной произошло, всего лишь частный случай, и сам по себе он значения не имеет, так как я не слишком принимаю все это к сердцу, но этот случай — пример того, как разбираются дела очень и очень многих. И я тут заступаюсь за них, а вовсе не за себя»[33].
Неблехова произнесла взволнованно:
— Вы правы, пан профессор! Это не сон, это гениальное видение того, что все мы пережили. Ведь среди нас до сих пор есть Йозефы К. Непосредственно с нами здесь находится один из них...
Она повернулась, и в этот момент наш случайный путник увидел того, о ком она говорила.
В одной из находившихся в стороне ниш перед боковым алтарем стоял на коленях человек. Неблехова приблизилась к нему и произнесла патетически растроганно:
— ...Убогий, состарившийся, измученный. Что из того, что он священник? Мы уважаем его веру. Это прежде всего человек, который здесь, перед алтарем, благодарит не только бога, но и нас, людей, еще не потерявших своего человеческого лица, за то, что остался жив... — Она подошла к нему и спросила: — Вы пережили подобную ситуацию, какую описывает Франц Кафка, ваше преподобие?
Мужчина у алтаря медленно повернулся к ней. Это был очень старый человек со спокойным, ласковым выражением лица, на которое наложил отпечаток его священный сан и на котором было написано душевное страдание. Не вставая с колен, он поднял на нее свои полные скорби глаза и тихо произнес:
— Да...
— За что вас, собственно, арестовали?
— Не знаю.
— А за что вас осудили?