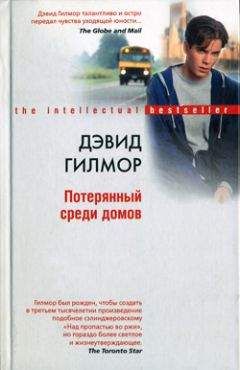Джон Ле Карре - Идеальный шпион
1) Уверен ли ты, что фамилия нашего уважаемого казначея пишется через „з“? В кадастровой книге есть упоминание о неком Абрахаме С., математике, окончившем Манчестерскую классическую школу. Кандидатура подходящая, но пишется он, вне всякого сомнения, через „с“ (хотя следует учесть возможность для такого джентльмена писаться по-разному). Как говорится, не насилуй события, но, если Госпожа Удача улыбнется тебе, дай нам знать.
2) Будь добр, склони свой острый слух к толкам и пересудам вокруг наших храбрых шотландцев, собирающихся послать в июле делегацию на фестиваль молодежи в Сараево. Властей почему-то начинает беспокоить кое-кто из джентльменов, охотно принимающих от государства большие стипендии лишь затем, чтобы кутить за границей, понося это государство.
3) Что же до нашего выдающегося заезжего певца из университета города Лидса, выступавшего перед кланом 1 марта, приглядись и прислушайся к его верной супруге Магдалене (Господь да пребудет с нами!), которая, по общему мнению, в музыкальности не уступает своему старику, но предпочитает не высовываться из-за особенностей своей сдержанной натуры ученого. С нетерпением ждем твоих соображений по этому поводу…»
* * *Зачем Пим делал это, Том? Это был его собственный выбор. Его собственная жизнь. Никем ему не навязанная. Когда угодно он мог заорать «нет!» и тем удивить себя самого. Но этого не произошло. Он попал в эту трясину, а после все было уже кончено и предопределено навеки. Зачем пренебрегать предопределением и удачей, спросите вы, счастливой наружностью, покладистым характером и природным добросердечием, коль скоро всему этому можно было найти хорошее применение? Зачем называть своими друзьями группу унылых и угрюмых людей чуждого происхождения и мировоззрения, втираться к ним в доверие, расточая улыбки, и всячески стараться быть им полезным — ведь никакого блеска и привлекательности в университетских левых к тому времени не осталось — поверь мне: Берлин и Корея навсегда покончили с этим — неужто лишь затем, чтоб иметь возможность предавать? Зачем просиживать целые ночи в пивных в обществе хмурых провинциальных девиц, глядящих на тебя исподлобья и щелкающих орешки, не имеющих себе равных в вопросах политэкономии, и, выворачиваясь наизнанку, усваивать их мировоззрение, и губить здоровье дымом дешевых сигарет, с яростной готовностью соглашаясь с тем, что все приятное в жизни есть стыд и позор? Зачем разыгрывать с ними преподобного Мерго, разрешая им глумиться над твоим буржуазным происхождением, унижаясь, радуясь их порицанию и так и не добиваясь отпущения грехов? — неужели лишь затем, чтобы после кинуться и одним махом перевесить чашу весов серией не совсем точных докладных обо всех событиях прошедшей ночи? Мне ли не знать! Я делал это сам и заставлял делать других, всегда будучи изумительно последовательным и убедительным в своих доводах. Во имя Англии. Чтобы свободный мир ночами мог спокойно почивать в своей постели в то время, как тайная стража хранит его и грубо, по-солдатски заботится о нем. Во имя любви. Чтобы считаться хорошим парнем и хорошим солдатом.
Фамилия Эйби Зиглера (как бы она ни писалась — через «з» или через «с») маячила, четко выделяясь заглавными буквами на каждом левацком плакате или бюллетене, развешиваемом в университетском общежитии. Эйби был долговязым и прокопченным трубочным дымом сексуальным маньяком, помешанным на собственной популярности. Единственной его мечтой в жизни было добиться того, чтобы его заметили, и редевшие ряды леваков он посчитал самой легкой дорогой к этой цели. Существовали десятки безболезненных способов, какими Майкл и его люди могли получить сведения об Эйби, но им надо было использовать Пима. Великому шпиону пришлось пешком проделать весь путь до Манчестера лишь за тем, чтобы отыскать фамилию Зиглера (или же Сиглера) в телефонном справочнике. Это было его первое крупное задание, а там пошло и пошло. «Это не предательство, — твердил он себе, уже барахтаясь в Майкловых сетях, — это нужное дело. Эти оголтелые парни и девушки в шарфах с обозначением колледжей и смешным провинциальным выговором, которые называют меня „наш буржуйский дружок“ и хотят разрушить общественный порядок собственной страны».
Во имя своей родной страны, как бы сам он это ни называл, Пим отправлял конверты и запоминал адреса, распоряжался на сходках и собраниях, шагал в невеселых уличных процессиях, а после записывал имена участников. Во имя родной страны он не гнушался никакой лакейской работой, лишь бы заслужить похвалу. Во имя своей страны или же во имя любви и ради майклов он допоздна простаивал на перекрестках, навязывая неудобочитаемые марксистские брошюры прохожим, которые в ответ лишь советовали ему лучше отправляться в постель. Неразошедшиеся экземпляры он кидал в сточную канаву, а в партийную кассу вносил собственные деньги, так как гордость не позволяла ему просить денег у майклов. И если время от времени, когда он засиживался допоздна за своими скрупулезными докладными о действиях потенциальных революционеров, перед глазами его внезапно возникала тень Акселя и в ушах раздавался его крик: «Пим, подонок, где ты там прячешься?» Пим всегда мог отогнать его хитрым соединением собственной логики с логикой майклов: «Хоть ты и был моим другом, ты враг моей страны. Ты вредный элемент. У тебя не было паспорта. Извини».
* * *— Какого черта ты якшаешься с этими красными? — спросил однажды Сефтон Бойд ленивым сонным голосом: он лежал, уткнувшись лицом в траву. Они отправились на его спортивном автомобиле позавтракать в Годстоу и валялись теперь на лугу, над плотиной.
— Кто-то говорил мне, что видел тебя на собраниях некой группы. Ты произносил там сногсшибательную речь, громя безумцев-поджигателей войны. Откуда взялась еще эта группа?
— Это дискуссионный клуб под председательством Дж.-Д. Коула. Ориентируется на социалистическую перспективу.
— Они педерасты?
— Вот уж не знаю!
— Лучше ориентируйся на что-нибудь другое. А еще я видел твое имя на плакате Секретарь социалистического клуба колледжа. Мне казалось, что тебе больше подходит «Грид».
— Хочу узнать все стороны жизни, — сказал Пим.
— Но они не есть все стороны жизни. Все стороны — это мы. А они — это лишь одна сторона. Заграбастали пол-Европы, мразь этакая, пробы ставить негде! Уж поверь мне.
— Я делаю это ради моей страны, — сказал Пим. — Это секретное задание.
— Чушь, — сказал Сефтон Бойд.
— Нет, это правда. Каждую неделю мне шлют инструкции из Лондона. Я нахожусь на секретной службе.
— Точно так же, как в школе Гримбла ты был немецким агентом. А у Уиллоу — родственником Гиммлера. Так же, как ты трахался с женой Уиллоу, а твой отец был адъютантом Уинстона Черчилля.
Наконец настал день, долго предвкушаемый и не раз откладываемый, когда Майкл пригласил Пима к себе, чтобы познакомить с домашними. «Влюбчива до чертиков, — предупредил его Майкл, говоря о своей супруге. — Гляди в оба и будь начеку. Пощады не жди». Миссис Майкл оказалась рано увядшей, с жадным взглядом женщиной в юбке с разрезом и блузке, глубокое декольте которой обнажало малоаппетитную грудь. Пока муж ее был чем-то занят в сарае, где он, видимо, проводил большую часть времени, Пим неумело мешал тесто для йоркширского пудинга и отражал ее атаки, когда она набрасывалась на него с поцелуями, так что под конец был вынужден укрыться с детьми на лужайке. Потом пошел дождь, и он увел детей в гостиную. Играя с ними, он оградил себя тем самым от нападения.
— Магнус, как инициалы вашего отца? — повелительным тоном задала от дверей вопрос миссис Майкл. Я помню ее голос и тон — вопросительно-сварливый. Она как будто осуждала меня за то, что я вместо того, чтобы наслаждаться ее ласками, поедал жадно шоколад.
— Р.Т., — ответил Пим.
В руках у нее была воскресная газета.
— Тут говорится, что Р. Т. Пим баллотируется как кандидат либеральной партии от округа Северный Галворт Его называют филантропом и пишут, что он агент по про даже недвижимости. Ведь это не может быть однофамилец, правда?
Пим взял у нее газету.
— Нет, — согласился он, глядя на портрет Рика с рыжим сеттером. — Не может.
— Только вы должны были сказать нам. То есть что вы очень богаты и не нам чета. Я и так знала, но такая вещь — это ведь жутко интересно и необычно для нашего круга.
Вне себя от дурных предчувствий, Пим вернулся в Оксфорд, где заставил себя прочесть, вернее, проглядеть четыре последних письма от Рика, которые он бросил в нераспечатанных конвертах в ящик письменного стола, рядом с акселевским Гриммельсгаузеном и неоплаченными счетами.
* * *Пятидесятитрехлетнего Пима в его халате из верблюжьей шерсти бил озноб. Неожиданно, как это подчас бывает, его охватила бестемпературная лихорадка. Едва проснувшись, он принялся писать и писал долго, на что указывала его отросшая щетина. Легкий озноб превратился в дрожь. Мускулы шеи и ляжек корежили судорожные подергивания. Потом он начал чихать. Первый залп был долгим, меланхолическим. Второй был как бы ответным. «Они борются за меня, — думал он, — парни хорошие и парни плохие устроили перестрелку внутри меня. Апчхи! О Боже ты мой! Апчхи! О Господи, прости его, ибо он не ведал, что творил!»