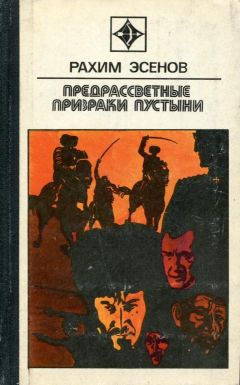Рахим Эсенов - Легион обреченных
Но сегодня Ашир почему-то завел разговор о родном ауле и односельчанах, вспомнил рассказы отца...
Это было еще до Октябрьской революции, в ходе первой мировой войны. Царское правительство мобилизовало тогда многих туркмен на тыловые работы — рыть окопы, рубить лес, возводить оборонительные сооружения. Другие угодили на фронт, на передовую, третьи служили в Текинском полку при его императорском величестве.
В туркменские аулы из далекой России зачастили казенные бумаги: «Погиб за царя и отечество», «Пропал без вести». Получил похоронку на своего старшего сына и Мухат-ага из предгорного аула. Погоревали-потужили, справили поминки... А сын возьми да и вернись через год. Живой и здоровый. Был тяжело ранен, лечился в лазарете, после провалялся в липком бараке, еле выкарабкался с того света.
Мухат-ага, как и положено, зарезал барана, пригласил гостей. Да только той не походил на радостное празднество. Вели себя все словно опять на поминках: отец сумрачный, мать невесела, младший брат едва показался на глаза, словно чего-то стыдясь, и скрылся. И жена солдата что-то не рада.
Вечером, когда гости разошлись, фронтовик остался наедине с женой.
— Что это вы все как пришибленные? — с тревогой спросил он. — Иль моему возвращению не обрадовались?
Жена молчала, не смея поднять глаза на мужа.
— Стели постель... Уже поздно, — сказал он, разуваясь.
— Тебе я постелила, ложись...
— А себе?..
— С кем мне свою постель стелить? С тобой или твоим младшим братом? Ведь я соблюла дакылму[36], — и горько заплакала.
Муж молча натянул сапоги, поднялся, набросил на плечи шинель и пошел куда глаза глядят. Говорят, с тех пор его не видели в родных краях. В Россию вроде как подался...
Ашир умолк. В просторной комнате воцарилась тишина. Было слышно, как за окном бесновалась снежная пурга.
— У нас, узбеков, тоже такой обычай есть, — задумчиво произнес Турдыев, которого Таганов пристроил адъютантом к Чалык Башову. — Впрочем, жена-то, бедняжка, не виновата...
— Война, война виновата... — тоскливо сказал кто-то.
И снова стало тихо. Каждый задумался о своем.
— Пока мы тут будем каблуками щелкать, глядишь, наши жены замуж повыходят, — сказал рослый казах, тоже ходивший в подчинении у Башова. — Что им про нас известно? Ни слуху ни духу... Приедем, а они встретят нас с новым пополнением...
— Да не терзай ты душу! — взмолился Турдыев. — Без тебя тошно.
Мередов подошел к окну, чтобы закрыть форточку, и молча вглядывался в белесую круговерть, завывавшую в высоких соснах. Ему почудилась... Туркмения, далекий, родной край.
— А у нас сейчас весна, — счастливо улыбнулся он. — Хотите, я расскажу вам о Каракумах, о наших цветущих оазисах, окруженных горами, песками от седоглавого Каспия до Джейхуна[37]?
Все согласно закивали, кто-то воскликнул: «Берекелла!», словно подбадривал на тое любимого бахши — народного певца традиционным возгласом.
...Степь звенела тысячами струн диковинного дутара: и посвистом жаворонка, и шелестом хлебных колосьев, и гудением пчел, и ржанием дикого куланенка, и пением речки, что стекала с гор по радуге камней. Даже зной, струившийся над землей, казалось, тоже издавал чарующие звуки.
Большекрылой птицей летел по долине всадник в белой, лихо заломленной папахе и кумачовом халате, и дробный топот его резвого ахалтекинца, убранного серебром, гулко отдавался в степи.
— Родина мне видится конем, летящим по степному простору, — Аташ вгляделся в задумчивые лица своих товарищей. — Конь мчится в завтра, к цели, наперекор злу...
Скакун несся с джигитом по алому половодью маков, по пьянящему разливу изумрудного разнотравья, мимо белотелых вековых чинар; пахло солнцем, влажной землей, теплым дождем, а впереди, насколько хватал глаз, — необъятная ширь, где у самого небосвода вился кольцами дымок родного Конгура. Как девственны и неповторимы картины Кесе Аркача[38]: и бездонное небо, и голубая даль, и ядреный воздух — все, что рождено неоглядным простором степей, этим чудом из чудес.
И люди здесь необычны — видно, вобрали в себя, в свою плоть и душу степную ширь, все чистое, светлое, рожденное под этим ярким солнцем. Оттого тут человек горд, как скачущий быстроногий конь, как парящий в небе орел, оттого чист сердцем, как утренняя заря.
У туркмен в жизни всегда были три опоры — Каракумы, горы и конь быстрокрылый. Они служили ему от первого до последнего дня, поили и кормили, укрывали от жары и стужи, спасали от врагов. А врагов у маленького народа была тьма-тьмущая. Еще легендарный Кеймир Кёр изрек фразу, ставшую крылатой: «Ты не трогай — мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим». Так сказано не от трусости, а от великодушия.
Мал народ или велик, но человечность и свободолюбие свойственны всем. Ибо в сердце свое каждый из нас впитал образы степей или лесов, гор или равнин, родного аула или села, дорогих и любимых людей, слившихся в единый образ милой Родины. Любовь человека к родной земле велика. А великое рождает великое. Колыбель этому святому чувству — все, что он называет Родиной.
— И сегодня Родина с нами, — задумчиво продолжал Аташ. — Это она, ее сыны и дочери встают неодолимой преградой, о которую враги всегда разбивают себе лбы... Я ощущаю, как ветер с предгорий родной стороны овеял мое лицо, дохнул ароматом тюльпанов. Там нас ждут отцы и матери, жены и невесты, милые братишки и сестренки...
Мередов все рассказывал, а тем, кто слушал его, уже тоже виделся свой родной край... Кто-то сдавленно, тяжко вздохнул, кто-то потер кулаком глаза, быть может, смахнул слезу. Слезу любви и ненависти. Скупую мужскую слезу, что придает человеку силу, решимость в час испытаний,
Кулов снял со стены самодельный двуструнный дутар и запел: «Гулял я по лугам невинным...»
Где Таганов слышал эту песню? Ах, да, в Дьеппе. Но на этот раз она исполнялась на каракалпакском языке и была созвучна настроениям туркестанцев, ибо великий туркменский поэт создал ее слова на чужбине. Она одинаково будоражила души сидевших тут туркмен и казахов, киргизов и узбеков... И они, сгрудившись вокруг Ашира плотным кольцом, наперебой расспрашивали его, когда придет желанная свобода, что надо делать, чтобы вырваться из этого кошмара... Людям осточертело все, они рвались в бой, чтобы поскорее повернуть оружие против фашистов.
— Еще не время, — сказал Ашир, — еще не все туркестанцы понимают, что Германия проиграет войну и что так называемый «Свободный Туркестан» — лишь демагогическая выдумка нацистов. Нас, как и других, хотят использовать в качестве обычного пушечного мяса. Все подобные формирования, которые создают гитлеровцы, — это по сути легион обреченных на смерть. Это идея фашистских главарей, чтобы вбить клин между братскими народами нашей страны, натравить их друг на друга, используя с этой целью и военнопленных различных национальностей для борьбы против своей же Родины... Так что ждите, друзья. Ждите!
И туркестанцы ждали, снося муштру, издевательства... В их каторжную жизнь внес разнообразие лишь бродячий цирк-шапито, раскинувший свой шатер неподалеку от Понятова, на пересечении трех дорог, ведущих в Варшаву, белорусский город Барановичи и соседние польские села. Солдаты любили ходить в цирк. Заходил туда и Таганов.
В последнее время Байджанов, подобравший у себя группу туркестанцев, готовых перейти с оружием в руках на сторону партизан, все чаще требовал у Ашира ускорить задуманное. А он, готовя общее вооруженное выступление, просил его набраться терпения. Но тот по-прежнему настаивал на своем. Такое поведение Байджанова могло провалить всех, и тогда разведчик решился на рискованный шаг — познакомил Байджанова с Марией, которая должна была помочь его группе перейти линию фронта. Он представил Белку как свою знакомую. О том, что гимнастка цирка работает на нашу разведку, разумеется, никто не подозревал.
Подготовив переход группы Байджанова, Ашир и Мередов, ставший с его помощью дивизионным пропагандистом, по заданию Мадера выехали в Варшаву. Там им удалось завербовать в лагере еще около пятидесяти туркестанцев. Половина из них по дороге в Понятово бежала. Вернувшись, Ашир обвинил немецкую охрану в том, что она пропила предназначенные для пленных продукты и потому преступно отнеслась к своим обязанностям.
— Разве пристало немецкому солдату так исполнять свой долг сейчас, в тяжелый для Германии час? Разве этому учит свой народ фюрер? — возмущался Таганов в кабинете командира дивизии. И немцев арестовали...
Мадер гордился преданным и исполнительным туркестанцем. Гордился им и Фюрст, который после войны рассказывал советскому следователю:
«Я весьма был доволен донесениями Таганова. Через него мне было известно все, что происходило в штабе Мадера, оказавшегося на поводу у проходимцев Сулейменова, Абдуллаева и им подобных... Они даже предложили ему чин фельдмаршала Туркестана. Это был не штаб дивизии, а клоака. Офицеры-азиаты слушали передачи союзников, договаривались даже до того, что англичане им по духу ближе, чем немцы, будто в жилах туркестанцев течет голубая кровь Чингисхана и Батыя... А Мадер знал о неблагонадежности своих прохвостов, мечтавших освободиться от немецкой опеки и проводить самостоятельную панисламистскую, пантюркистскую политику. Знал и молчал. Нет, даже поощрял. Просто эта старая лиса разводила сопливую демократию, строила гегемонистские планы. Когда осел жиреет, он лягает своего хозяина. Мадер любил изрекать сию восточную мудрость...»