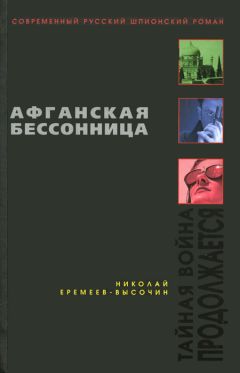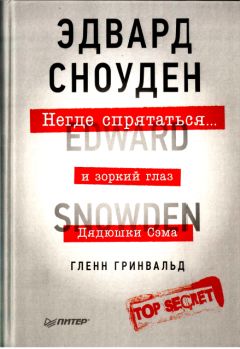Николай Еремеев-Высочин - Афганская бессонница
— Деньги здесь ни при чем, — отрезал я.
Я все-таки оставался русским. Американец бы ухватился за эту фразу и, я думаю, закрыл бы этот вопрос раз и навсегда.
— Ты не завербованный агент, на которого всегда можно нажать, если он начинает брыкаться, — миролюбиво продолжил Бородавочник. — Да и у нас, я надеюсь, сложились и свои отношения.
Эсквайр сделал паузу, рассчитывая на подтверждение с моей стороны. Я кивнул — мне действительно не в чем было упрекнуть его лично.
— Но я не хочу, чтобы ты что-то делал в качестве личного одолжения мне, — это ясно. Что остается? Для людей, которые работают здесь, есть понятие «долг службы», и с ними такой разговор был бы вообще немыслимым. Но ты живешь там, и это многое меняет. Во всяком случае, для меня.
И здесь Бородавочник был прав. Для него правила игры еще существовали. Я в Конторе мало с кем общался, помимо него, но это были молодые волки. А он все-таки — старая школа.
— И какое будет решение? — спросил я. Я из деликатности не хотел подчеркивать, что решение должно быть принято обеими сторонами.
— Решение принимать нам обоим, — произнес за меня Эсквайр и снова вдохнул воображаемый запах со своей верхней губы. — Поживи пару дней, недельку, сколько можешь, у себя на даче, а потом мы снова встретимся. Один вариант такой. Если ты принесешь мне служебную записку с описанием подозрений, что тебя в последнее время пасут, я завизирую ее, и мы тебя законсервируем на неопределенный срок.
— А другой вариант?
— А другой вариант, тебя никогда больше не будут просить сделать работу, для которой годится и кто-то другой. Но, поскольку я часто видел тебя в делах из серии «миссия невыполнима» и поскольку ты один из тех, кому я безусловно доверяю, я смогу обратиться к тебе, если для кого-то это будет вопрос жизни или смерти. Так будет честно?
Я видел Эсквайра в разных ситуациях. Но он всегда всех переигрывает.
4. Вторая встреча с Эсквайром
В тишине возник, потом стал отчетливым ровный гул. Я открыл глаза. За окнами, на которых не было ни ставен, ни занавесок, была кромешная тьма. Электричества в Талукане не было. В нашем гостевом доме с наступлением темноты на несколько часов запустили движок, но потом выключили. На улицах, как мы успели заметить, между редкими уличными фонарями даже не осталось проводов. Шум усилился, не оставляя сомнений: над нашим домом пролетал вертолет. А Дед Мороз уверял меня, что у них вертолетам запрещено летать даже днем в условиях плохой видимости!
Я с сожалением снова закутал голову в капюшон куртки. Я надеялся, что за окнами уже посерело и мне не придется пытаться добиться хотя бы точечного отключения.
…Так вот, мы виделись с Эсквайром в среду. Пока меня везли на дачу на служебной машине — теперь у Конторы были не «Волги», а «Вольво» — я успел пожалеть, что не воспользовался ситуацией и не поблагодарил его сразу за благородное согласие отпустить меня на волю.
Когда мы встречаемся с мамой, я как будто попадаю в кокон. Время прекращает свое действие. Мы не виделись пару лет, но как будто я никуда не уезжал и мы расстались только утром. Вторая особенность — вот я вошел в эту дверь, а в следующую минуту я уже выходил из нее. А на самом деле между этими двумя моментами проходили дни, иногда неделя. Но на этот раз отсчет времени все же был.
Итак, в среду я жалел, что не вышел из игры сразу. В четверг я укрепился в этом мнении и решил на следующий день позвонить Эсквайру. В пятницу утром его мобильный не отвечал, наверное, он был на очередном совещании. Днем я позвонил его помощнику — Бородавочника на месте не было. А к вечеру я уже не был так уверен в своем решении. Эсквайр говорил о вопросе жизни и смерти. Что — он имел в виду, что сейчас был как раз такой случай? Короче, перезванивать ему я не стал.
В выходные я Эсквайра решил не тревожить. Это из-за границы, во время операции мне приходилось нажимать пожарную кнопку, зная, что его поднимут из постели немедленно по получении моего сигнала тревоги, хоть в четыре утра. Будучи в Москве, я признавал его право на личную жизнь. В субботу я думал, не будет ли мне скучно, если моя жизнь ограничится ее видимой и публичной стороной. Конечно, мне больше не придется вести двойную жизнь, врать Джессике, Бобби и всем остальным близким. Но готов ли я сойти с адреналина?
Еще я думал о ловкости, с которой Бородавочник провел разговор со мной. Сначала жесткость: «Ты знаешь, что я скажу, так что к чему продолжать разговор?» Потом апеллировал к моей сознательности: что, мы, отличники, должны оставить эту страну хищникам и троечникам? А потом вдруг сдал позиции: я тебя понимаю и хорошо к тебе отношусь, так что любое твое решение приму. Он знает, что благородство провоцирует благородство. Хитрый черт! Не исключено, что он всю пятницу бегал от меня, рассчитав, что в этот день я буду склонен принять другое решение.
Но в воскресенье я позвонил к себе домой, якобы из Ашхабада. Джессика уже соскучилась, у нее начиналась депрессия, и она вылила на меня такой поток тепла, что я был готов завтра же вернуться в Нью-Йорк На черта мне все это было нужно?! В моей жизни владельца турагентства с международной репутацией хватало и смены обстановки, и путешествий, и новых людей, и увлекательных приключений — и стрессов! Короче, я решил в понедельник прийти к Эсквайру и поставить на этом точку. Я сел и написал бумагу, о которой он говорил — ну, что мне кажется, что меня вот-вот накроет ФБР.
В понедельник утром Бородавочник откликнулся на мобильном и тут же выслал за мной свою «Вольво».
У него два кабинета — по крайней мере, насколько мне известно: в Лесу и в том конспиративном особняке в переулке около Пречистенки. В Лесу я был всего один раз — там сложная пропускная система, да и тебя может увидеть слишком много посторонних глаз. Здесь же я в машине с тонированными стеклами проезжал по городу, заезжал во двор, скрытый сплошными воротами, и входил в дом, где меня встречал сам Эсквайр. Таким образом, меня видел только водитель.
Бородавочник был чем-то обеспокоен, возможно, он куда-то спешил. Но — я уже знал это по своим предыдущим приездам в Москву — мои дела были для него в эти дни абсолютным приоритетом. Это не просто мое ощущение. Пару лет назад, когда мы сидели с ним в этой самой комнате на Пречистенке, ему позвонили по телефону, по вертушке. Судя по всему, это был адъютант кого-то очень важного, может быть, председателя КГБ, или как он там тогда назывался? «Ну и что, что Кремль? — в какой-то момент раздраженно буркнул Эсквайр. — Чтобы отчитываться о работе, ее еще нужно кому-то делать!» И повесил трубку.
В этот мой приезд, похоже, сложное решение мы действительно принимали вдвоем, и Бородавочник тоже возвращался к нему мысленно все эти дни. Во всяком случае, его первыми словами были:
— Написал?
Я даже вздрогнул. От неожиданности я просто полез в карман и достал сложенную в четыре раза рукописную записку на пяти листах. В Конторе, видимо, чтобы не увольнять штатных графологов, они какие-то документы просят писать от руки. Эсквайр, легонько похлопав рукой по бумагам, лежавшим перед ним на столе, нащупал под одной из них свои очки, водрузил их на кончик носа и немедленно принялся читать.
— Где твоя ручка? — спросил он через пару минут. — Та, которой ты писал.
Я протянул ему свой «Монблан». Бородавочник зачеркнул какую-то букву и, вернувшись на предыдущую страницу, поставил пару запятых — видимо, факультативных, но он все же о них помнил. Ручку мне он возвращать не стал. Раз уж она оказалась у него в руке, орудовать ею он стал все активнее. Я вспомнил, как он правил мои уже набранные на компьютере отчеты, когда я приезжал в Москву.
Дочитав последнюю страницу, Эсквайр снял очки и вернул мне ручку.
— Ну что, все изложено грамотно!
А говорят, хороших разводов не бывает! Я вздохнул с облегчением. Поживу еще недельку с мамой, а потом вернусь в Нью-Йорк. Бог с ними, с Каракумами! У меня действительно были сомнения, можно ли гарантировать безопасность туристов в стране Туркменбаши.
Но у Бородавочника для меня был еще один сюрприз.
— Но это-то дело мы с тобой провернем? — произнес он, подмигивая. Как если бы мы были два бывших одноклассника на рыбалке, собирающиеся выманить у соседа перемет за бутылку!
Я изумленно посмотрел на него.
— Это действительно вопрос жизни и смерти для многих, многих людей.
Я растерянно нашел глазами свою бумагу, лежащую поверх небольшой стопки документов.
— Я считал…
— Об этом мы договорились, и ты мое слово знаешь! — Бородавочник встал и снова стал выхаживать мимо фотографии Ельцина с поднятым кулаком. — Я твоей цибуле приделаю ноги, и лети на все четыре стороны! Но это такое дело, что справиться с ним может только самый лучший. А у меня лучше тебя никого нет. Я правду говорю!