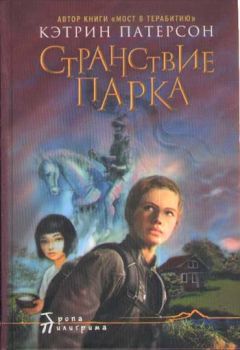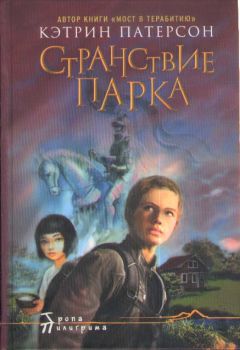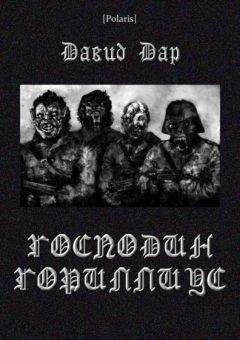Виктор Михайлов - Бумеранг не возвращается
— Сержант народной полиции Генрих Шютц.
— Очень приятно, Карл Фишер, служащий, — выдавив подобие улыбки, ответил Кноль.
— Господин Фишер, гравер этой монограммы ошибся, ваши инициалы «К» и «Ф», а на портфеле «Э» и «Ц»!
— Господин шуцман, я купил эту штуку еще на рейхстаговке…
С автобуса они сошли вместе. Полицейский так крепко держал Кноля за локоть, что у него затекла рука.
До отделения полиции они шли молча, улыбаясь друг другу, точно старые друзья. Затем портфель перекочевал на стол дежурного и Кноль почувствовал, как мечты о кружке пива, сосисках и гостеприимстве фрау Кениг начали испаряться.
Из состояния горькой обиды и разочарования его вывел голос дежурного:
— Подойдите ближе!
Адам Кноль подошел к барьеру, отделяющему стол дежурного от приемной полицейского отделения. Дежурный протер очки, еще раз внимательно посмотрел на «Карла Фишера» и сказал сержанту Шютцу:
— Его фотографий у нас больше, чем Дюрера в Национальном музее! Это же Адам Кноль, по кличке Ротбаке!
У Адама Кноля по поводу этой клички в свое время были крупные неприятности с третьим рейхом: молодчики Гиммлера решили, что «красная морда» суть политические убеждения Кноля. Его спасла лишь репутация старого жулика. Что же касается физиономии Кноля, то она у него была действительно красной, в мелкой завязи склеротических сосудов, и меткая кличка Ротбаке прилипла к нему, как муха к варенью.
— Итак, вы утверждаете, что этот портфель ваш? — спросил дежурный.
— Мой, — уже без прежней уверенности ответил Кноль.
— В таком случае вы должны знать, что в нем находится?
— А почему вы думаете, что я не знаю?
— Что же?
— Назойливое любопытство!
Сержант Шютц прыснул со смеху.
— Я вижу, что вы, Кноль, сами не успели взглянуть на его содержимое.
— Не успел, — согласился Кноль.
Дежурный потянул цепочку «молнии» и, открыв портфель, вынул его содержимое: напечатанное на машинке выступление политического комментатора радиостанции «РИАС», открытое письмо на имя Эбергарда Ценсера, удостоверение-пропуск станции «РИАС» на то же имя, пятый том собрания сочинений В. Маяковского на русском языке московского издания сорокового года и вложенную в книгу краткую записку на английском языке: «Информ мобилизейшэнэл посибилити 367».
— Кноль, вы утверждаете, что все это принадлежит вам? — с усмешкой спросил дежурный.
— Что я, сумасшедший?! — с искренним возмущением заявил Кноль.
— Где вы взяли этот портфель?
— Я одолжил его на Клейаллее у одного Пижона. Это была тяжелая работа, господин дежурный. Неужели я не заслужил кружки пива…
Подобные расходы не были предусмотрены сметой отделения полиции, поэтому, уделив из собственного бюджета несколько марок, дежурный, передав их Шютцу, сказал:
— До выяснения обстоятельства дела проводите Фишера-Кноля в изолятор и купите ему сосиски и кружку пива.
Содержание этого портфеля с монограммой позволяло сделать вывод, что его владелец — Эбергард Ценсер связан с отделением разведки некоего государства, где в качестве шефа подвизается доктор Кенигстон, больше известный под кличкой Петерзен.
9
МАШЕНЬКА
На следующий день после знакомства с иностранным журналистом Машенька поехала в книжный магазин. Стоя у прилавка и перелистывая Драйзера на английском языке, она услышала знакомый голос:
— Вас интересует этот неисправимый грешник, Фрэнк Каупервуд?
Девушка повернулась лицом к говорившему и узнала Патрика Роггльса. Выйдя из магазина, они долго бродили по улицам города. Замерзнув, зашли в кафе, и Машенька не заметила, как быстро закончился короткий зимний день и на улицах зажглись фонари.
Эта встреча была их последней случайной встречей.
На завтра они условились встретиться у входа в кинотеатр. Машенька так торопилась на свидание (это было ее первое свидание в жизни), что пришла раньше Роггльса. В ней уже просыпалась женщина, пусть еще не опытная, идущая ощупью по этому новому, незнакомому и тревожному пути, но женщина. Машенька вошла в магазин напротив, сквозь стекло витрины наблюдая за местом встречи. Увидев Роггльса, она не бросилась к нему навстречу. Нет, она стала считать до двухсот, сбилась со счета и, будучи не в силах преодолеть нетерпение, с трудом замедляя шаг, направилась к Роггльсу.
Встречи с Роггльсом стали для нее необходимы. Под влиянием вспыхнувшего и захватившего ее чувства Машенька потянулась к Роггльсу, как тянется вишневое деревце к солнцу своим первым, нежным цветением.
Со дня их последней встречи прошло два дня. Бывают же такие длинные, бесконечные дни!
В институте начались зачеты, Машеньке нужно было сдавать три предмета. Историю Англии она сдала, времени на подготовку к лексике оставалось много, да и давался ей язык легко, без зубрежки и напряжения.
Взволнованная, полная нетерпения, Машенька не могла без остатка заполнить день. Сколько она ни придумывала себе дела, а работы по дому было много, она не могла заполнить нескончаемые часы, остающиеся до встречи с Роггльсом.
Уходил день, томительный и тоскливый, приходила еще более мучительная ночь. Уже лежа в кровати, Машенька долго читала, совершенно не понимая прочитанного, так как мыслями была далеко. Затем гасила лампу и лежала с закрытыми глазами, лежала столько, сколько хватало сил, но сон не шел. Тогда она открывала глаза, и перед ней на стене, в раме оконного переплета, вставал отблеск города и легкий кружевной силуэт занавески. Рисунок гардинного тюля в этом призрачном свете ночи, отраженный на стене, казался ей картой бесконечных странствий. Возбужденная, неудержимо фантазирующая, она шла по этой карте, как бывало в детстве, в неведомые страны, только в детстве она путешествовала одна, а теперь…
Машенька произносит его имя едва шевеля губами, затем ей хочется услышать, как звучит оно наедине с ней, и она говорит его вслух. Потом она ищет ласкательное, произносит его и смущается так, словно кто-то подслушал ее в этой маленькой комнате на девятнадцатом этаже раскинувшего крылья дома, похожего на огромную окаменевшую на взлете птицу.
Уже под утро девушка забывается коротким, освежающим сном, и снова начинается день, бесконечный, полный тревожного и в то же время сладостного ожидания встречи.
Андрей Дмитриевич замечает перемену, происшедшую с дочерью. Он не спрашивает Машеньку, что с ней, — в мать она, такая же застенчивая, — и терпеливо ждет, пока она сама не расскажет о своем чувстве.
Секретарь партбюро института, где он работает, Анастасия Григорьевна Шубина — старый друг семьи Крыловых, да и не только Крыловых. Маленькая седая женщина с близоруко прищуренными, удивительно добрыми глазами и теплой улыбкой, Мать, как звали ее в институте, была душой всего коллектива. Кому, как не ей, знать, что происходит с его дочерью, она вырастила троих детей, вывела их в люди.
Анастасия Григорьевна выслушала Крылова и понимающе улыбнулась.
— Стареем, Андрей Дмитриевич, стареем, — мягко говорит она, — давно ли я Машеньку устраивала в детский сад, а вот поди ж ты, девушка. Такая, если полюбит, — навек! Я тебя, Андрей Дмитриевич, понимаю, неспокойно на отцовском сердце, да что поделаешь? Чтобы узнать меру своей силы, надо выходить в жизнь, и неудачи испытывать и всякие горести. Не бойся, она у тебя не штапельная барышня, у нее хорошая гордость есть и силы у нее достаточно. Человек-то он хоть достойный?
— Не знаю. Сама не говорит, видно, время еще не пришло, а спрашивать я не хочу.
Так в семье Крыловых поселилось что-то новое, и Андрей Дмитриевич и Маша носили это новое бережно, точно полную до краев чашу, боясь расплескать.
* * *
Утром Патрик позвонил по телефону и сказал, что через час заедет за ней на машине.
Машенька смотрела в окно на расстилающуюся перед ней Москву, Кремль, островерхие шпили высотных зданий, спокойную излучину набережной, легкие виадуки мостов в светлой дымке утреннего тумана, позолоченного лучами раннего солнца.
Открывавшуюся перед ней панораму города она видела не впервые, но ей казалось, что такой, как сегодня, она Москву еще не видела никогда. Облик города менялся во все времена года в разные часы дня; то строгий и спокойный, то сверкающий на солнце, то залитый вечерними огнями, он был точно щедрая горсть самоцветов. Но сегодня, в легкой дымке тумана, словно сотканный из тонких солнечных нитей, город казался ей неповторимым и необыкновенным.
После телефонного звонка, открыв на стук дверь, она увидела альпийские фиалки и темно-красную персидскую сирень; корзину цветов принес шофер.
Цветы не удивили девушку, они были так естественны в ее состоянии подъема и счастья. Она приняла их как должное, поставила у себя в комнате, быстро накинула шубку, надела вязаную шапочку и, захлопнув дверь квартиры, вышла.