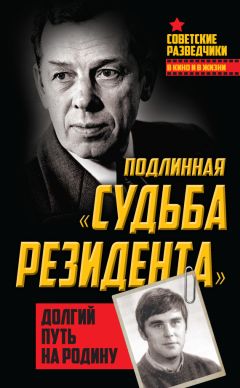Олег Шмелёв - Ошибка резидента
— Насчет этого? — Борков дернул себя за галстук, потом за борт пиджака. — Да-а, конечно!
— Как публика одета?
Борков быстро оглядел Коку и сказал:
— Представьте себе, довольно скромно. Все очень хорошо сшито, но ничто не бросается в глаза. Вот вы, пожалуй, на брюссельской улице сошли бы за брюссельца.
— Женщины?
Борков улыбнулся — впервые с тех пор, как вошел.
— Наши лучше, можете поверить.
Кока не упустил случая сказать комплимент.
— Если вы сравнивали с Риммой, то понятно… Вы меня простите, что я устраиваю вечер вопросов и ответов, но скажите, Владимир… Владимир… — Кока пощелкал пальцами.
— Сергеевич, — подсказал Борков. — Но это ни к чему. Просто Володя.
— Ну хорошо, Володя… Интересно сравнить цены.
— Видите ли, смотря на что. Шерстяные и кожаные вещи стоят довольно дорого. Всякие лавсаны и перлоны очень дешевы. Так называемые предметы роскоши очень дороги. Вот видите мой галстук, например?
Кока поманил его поближе, деловито пощупал галстук. В это время в комнату вошла Юля, достала из шкафа тарелки, а уходя, задержалась в дверях, заинтересованная разговором.
— Сколько?
— Угадайте.
— Не берусь.
— Десять долларов.
— Не может быть!
Борков был доволен эффектом.
— Цент в цент. Но, правда, это уже считается недешевый галстук. А мне, между прочим, рассказывали, что бывают и по семьдесят, и даже по сто долларов.
— Разврат! — воскликнул Кока и засмеялся. — Загнивают империалисты, а?
— Да уж загнивают, — согласился Борков.
Юля покачала головой и вышла.
— Не собираетесь больше никуда?
— Теперь вряд ли удастся.
— Почему?
Кока спросил это без особого ударения, мимоходом, но если бы Борков знал его лучше, он бы понял, что вопрос задан неспроста.
— Нашему институту режим сменили.
— Что значит «сменили режим»?
— Ну теперь мы пэ я.
— Почтовый ящик?
— Да.
— Зарплата прибавится?
— Может быть.
— Вы живете один?
— Здесь? Один. Родные в Саратове.
— У вас телефон есть?
— Не личный. В квартире.
— Разрешите мне записать? На всякий случай, а? А вы запишите мой.
— С удовольствием.
Они продиктовали друг другу номера телефонов.
Тут Римма и Юля принесли с кухни и поставили на стол тарелки с закусками, кофейник. Римма сказала:
— Просим…
В одиннадцатом часу Кока стал прощаться. Когда он ушел, Юля сказала Боркову:
— Володя, зачем ты дурачил старика? По-моему, галстук у тебя польский, и купил ты его в Столешниковом переулке за рупь тридцать.
Борков рассмеялся.
— Точно! Но ему так хотелось, чтобы это был десятидолларовый галстук. Пусть потешится.
ГЛАВА 9
Предатель по призванию
Поскольку Николай Николаевич Казин, с легкой руки Алика Ступина фигурирующий в деле под кличкой Кока, начинает играть все более важную роль, нелишне будет заглянуть в его биографию, чтобы понять, откуда он такой взялся. Прямо скажем, что экземпляр редкий, может быть, один на миллион, и любопытно будет проследить его развитие.
Честные люди, соприкасаясь с таким экземпляром, испытывают чувство глубокого омерзения, но все же именно от того, что они честные и порядочные, бессознательно порой ищут ему хоть какое-нибудь оправдание, высказывая классическое «ведь не всегда же он был таким»… И тут уместно предположить: а может, всегда?
Но оставим предположения, поместим эту реликтовую бациллу на предметный стол микроскопа и хорошенько разглядим ее. Биография у Коки поистине феерическая.
Родился он 31 декабря 1899 года. Позже, когда пробовал сочинять стихи символистского толка, он усматривал в том факте, что рожден на рубеже двух веков, нечто мистическое, считал это предзнаменованием необычайной судьбы. Трудно сказать, сколько тут мистики, но вот факт: мать и отец, подобно Алику Ступину, звали своего сына Кокой и никак иначе.
Родители его были из московских городских мещан. Отец служил в банке, жили они обеспеченно. Мать, натура нервная и болезненная, шесть месяцев в году сидела дома, мучаясь мигренями, а шесть проводила в Крыму. Там, в ялтинском частном санатории, она и скончалась летом пятнадцатого года, когда уже была в разгаре мировая война. Отец носил траур до осени, а затем, по протекции устроив сына в петербургское Владимирское юнкерское училище, сошелся без венчания с богатой купчихой.
Жестокая по отношению к новичкам юнкерская среда сначала испугала Коку, но он скоро приспособился, найдя покровителей в лице двух старших юнкеров, из унтер-офицеров, которые уже понюхали службы в армии. Он добился их расположения элементарным подкупом, отдавая часть денег, присылаемых отцом. В благодарность за это они били его при случае только сами, не позволяя бить другим. А заслуживал он битья часто, потому что фискалил. И уже в этом проявилось его раннее призвание.
Утром 11 ноября 1917 года, когда рота Владимирского юнкерского училища, в которой числился Кока, выступила для захвата телефонной станции, он в момент какого-то замешательства нырнул в проходной двор, бросил там винтовку и был таков. Еще до рассвета он пробрался на квартиру к той знакомой отца, через которую ему пересылались деньги. Она приняла в нем материнское участие, помогла переодеться в гражданское платье, а через неделю Кока уехал в Москву — боялся, что его как бывшего юнкера в Петрограде обязательно схватят. Конец ноября застал Коку в отцовской московской квартире, где хозяйничала теперь их служанка. Напуганный революцией, целый месяц просидел Кока дома, не показывая носа на улицу. Отца в то время в Москве не было, купчиха увезла его в какой-то город на Волге, где имела собственные пароходы.
Одним прекрасным утром в квартиру, где изнывал от неопределенности юный Кока, ввалился здоровенный мужик в новом тулупе, с угольно-черной курчавой бородкой — посланный отцом служащий купчихи. Он явился спасать Коку.
Через неделю они добрались до Сызрани, где Коку ждал отец с купчихой, а оттуда вчетвером, одевшись попроще и потеплее, пустились в дальнее путешествие на восток: отец наметил конечным пунктом Харбин.
На железных дорогах в ту пору творился невообразимый хаос, двигались в день по версте, с муками и слезами, а на станции Татарской, что между Омском и нынешним Новосибирском, их совместным мытарствам пришел конец. Ночью на темную станцию, где они в числе множества себе подобных ждали оказии, налетели конные бандиты. Купчиха, когда главный бандит с железнодорожным фонарем в руке вошел и зычно крикнул: «Пра-а-шу пардону!» — сунула Коке тяжелый кожаный мешок с медными планками и застежками, шепнула: «Спрячь за пазуху и тикай отсюда, схоронись где-нибудь, а как эти уберутся — придешь». Бандиты уже принялись весело за работу, а Кока, охватив руками живот, мелким шагом двинулся к выходу, где стоял вожак банды со своим телохранителем. Этот последний остановил его; «Куды-ы!» Но вожак осветил фонарем Кокину физиономию и молвил: «Пропустить шкета! С перепугу…» И Кока выскользнул на улицу… Напрасно отец вне себя матерился сквозь зубы и называл сына гаденышем, напрасно купчиха стонала и заламывала руки — Кока к ним не вернулся. К утру он успел уйти верст за пятнадцать, нанял в большом селе сани и двинул на запад, в Омск. Так свершилось его второе предательство.
В Омске, где он прожил месяц на квартире у отлученного от церкви дьяка, Кока приобрел привычку курить и потерял невинность. Совратила его дьякова дочка, числившаяся в девицах, а курить научил сам дьяк.
В купчихином мешке оказалось семьсот золотых монет, все десятки. Проявив рассудительность не по летам, Кока заказал себе у портнихи, знакомой дьяка, специальную стеганую душегрейку на вате, а потом, таясь от хозяев, собственноручно зашил монеты малыми порциями в ватные подушечки этой ловко придуманной им одежки.
Диковинно тяжелая получилась душегрейка, но своя ноша не в тягость, и он как надел ее, так уж больше не снимал, пока не добрался до Казани. Здесь судьба свела его с бывшим студентом Петроградского института путей сообщения, которого звали Герман, который был на три года старше Коки и так же, как и он, милостью гражданской войны оказался совершенно свободным и самостоятельным гражданином. Познакомились они на базаре. Кока желал купить револьвер, а Герман желал его продать. Они друг другу сразу понравились и с базара ушли вместе. С момента этой купли-продажи их можно считать друзьями по оружию. Герман оказался горячим приверженцем анархических идей Бакунина, а практическим толкователем их считал батьку Махно.
У Коки в голове царила идейная каша, он не разбирался в политике и был вроде того кота, который ходит сам по себе. Но пламенный анархист Герман в две ночи распропагандировал его, и Кока, обретя, таким образом, стройное мировоззрение, последовал за Германом на юг, к Азовскому морю, где гуляла махновская вольница.