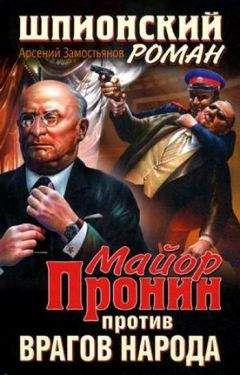Лев Овалов - Секретное оружие (сборник)
Но едва появилась машина, как у Янковской исчезли всякие сомнения в том, что свидание на набережной назначено немцами, пронюхавшими о предстоящей встрече. Машина принадлежала одному из германских уполномоченных по репатриации. Немцы не могли не предположить, что Блейк передаст Хэндшему какие-то документы. Приняв меня за Блейка, они могли меня или захватить, или убить.
Поэтому Янковская и изобразила из нас влюбленную пару. Немцы помчались дальше, а Янковская заторопилась на свидание с Хэндшемом.
За Блейка принял меня Смит, который решил, что Янковской не удалось покушение. Они условились, что Смит пристрелит Блейка, если тот появится на улице. Смит предупредил свою сообщницу свистом, но Янковская предотвратила ненужное убийство.
Когда мы дошли до угла, Смит, издали следовавший за нами, убедился в своей ошибке, но снова выстрелил, заметив, как ему показалось, мою попытку похитить сумку Янковской.
На этом бы все и закончилось, не вздумай я отправиться в ресторан на поиски таинственной незнакомки.
Янковская нашла Хэндшема за столиком и сказала, что Блейк подвергся нападению и тяжело ранен. Хэндшем встревожился, но она успокоила его, сказав, что убийцам список похитить не удалось, и отдала ему один экземпляр списка, умолчав, разумеется, о другом. Она высказала предположение, что это – дело рук советской разведки. В это время появился я и, увы, не сумел скрыть своего внимания к Янковской. Хэндшем заинтересовался мною. Янковская сказала, что я офицер советской разведки, давно интересуюсь Блейком и ею, что она только что встретила меня на набережной, и вполне возможно, что это я и пытался убить Блейка.
Хэндшем приказал меня убрать, предупредив, что еще до отъезда проверит, как выполнено его поручение. Янковской не оставалось ничего другого, как опередить меня и отравиться к моему дому.
Она взяла с собой Смита, и они вдвоем притаились на лестнице. Смит и осветил меня сверху, когда я поднимался…
Покушение на мою жизнь совпало с первой бомбардировкой Риги. Янковская сразу догадалась, что означают донесшиеся до нее взрывы, и с обычной для себя быстротой решила сохранить мне жизнь.
В новой ситуации Блейк, послушный и ничего не знающий о ней новый Блейк, мог очень и очень ей пригодиться…
Идея выдать меня за Блейка озарила ее в то самое мгновение, когда она хладнокровно выполняла приказание Хэндшема. Можно сказать, эта мысль отвела ее руку от моего сердца, но… не от груди, если я в этой ситуации и нужен был Янковской, то только в беспомощном состоянии.
Она меня не убила, но тяжело ранила. Вытащить меня в бессознательном состоянии из дома с помощью Смита не представляло особого труда, они проделывали вещи и посложнее. Меня перевезли на квартиру Блейка, а труп Блейка забрал Смит. Утром этот труп, изуродованный настолько, чтобы не было заметно разницы между Блейком и Макаровым, был найден в одном из переулков под обломками дома, разрушенного немецкой бомбой. Одежда и документы подтверждали, что это Макаров. Макарова похоронили товарищи, а тяжело раненного Берзиня Янковская поместила в больницу. Покуда Берзинь находился между жизнью и смертью, Рига была оккупирована немцами. Они и сами знали, кто скрывается под именем Берзиня, и Янковская поставила их об этом в известность, тем более что по линии заокеанской разведки ее непосредственным начальником стал профессор Гренер, давно уже связанный с этой разведкой.
В общем, все, о чем она рассказывала, было известно, и она мало отклонялась от истины.
Судебное разбирательство шло к концу.
Председатель суда, пожилой полковник в очках, бросил на меня вопросительный взгляд и больше для проформы спросил:
– Имеете что-либо добавить?
Я покачал головой:
– Нет, что же… Все правильно…
Да, все, что говорила Янковская, было правильно, и тем не менее она уходила от ответственности. Да, собирала информацию для одних, для других, мне даже спасла жизнь, во всяком случае после ее рассказа могло создаться такое впечатление, и если бы не покушение на Лунякина, которое она склонна была объяснить своей экзальтированностью, она могла бы даже рассчитывать на снисходительный приговор…
Но снисходительное отношение к таким преступникам – глубочайшая несправедливость по отношению к тысячам невинных людей, которыми играют и жертвуют себялюбивые и циничные личности вроде Янковской ради удовлетворения своих корыстных интересов!
– Правильно, – повторил я. – Но…
Председатель взглянул на меня.
– Госпоже Янковской следовало бы сказать о своем сотрудничестве с профессором Гренером, – сказал я. – Это сотрудничества заслуживает внимания суда!
– Суд не должен интересоваться моими отношениями с этим человеком! – запальчиво перебила меня Янковская. – Никто не имеет права касаться моей интимной жизни!
Ей очень, очень хотелось скрыть некоторые стороны этой жизни!
– А дети? – задал я ей вопрос.
– Что «дети»? – переспросила она.
– Дети, которых вы доставляли профессору Гренеру для его преступных экспериментов?
– Что-что? – переспросил председатель суда.
И я рассказал суду обо всем, что мне довелось видеть в оккупированной Риге.
И о повешенных на бульварах, и о подростках, угоняемых в Германию, и о детях на даче Гренера, и о том, что Янковская самолично отбирала детей для опытов своего ученого поклонника.
Председатель суда склонился над столом и принялся заново перелистывать следственное дело.
– Преступление против человечности, – сухо заметил он и повернулся к Янковской. – Что вы можете сказать по этому поводу?
Но у Янковской хватило храбрости усмехнуться.
– Макаров все это говорит из ревности, – сказала она, щуря свои дерзкие глаза. – Они с Гренером постоянно ревновали меня друг к другу…
Тут Янковская внезапно поднялась, какими-то совершенно умоляющими глазами посмотрела на своих судей и протянула ко мне руки.
– Андрей Семенович, ведь мы никогда уже с вами не увидимся! Не обижайтесь на меня! Но неужели вы способны забыть вечера, проведенные нами вместе?..
И я, правду сказать, смутился.
Председатель пожал плечами, провел ладонью по залысине и поправил очки.
Янковская не замедлила разъяснить сказанное.
– Как видите, майор Макаров не может отрицать нашей близости, – обратилась она к председателю суда, посматривая то на него, то на меня своими кошачьими глазами. – Только он спешит уйти от ответственности!
Председатель строго посмотрел на Янковскую и опять поправил очки.
– Что вы хотите этим сказать?
– Только то, что Макаров – такой же шпион, как и я, – отчетливо произнесла она звенящим и чуть дрожащим голосом. – И даже чуть покрупнее!
Янковская замолчала.
– Мы вас слушаем, – поторопил ее председатель. – Говорите-говорите!
– Он заслан сюда заокеанской разведкой, – с каким-то отчаянием произнесла Янковская.
И принялась рассказывать о моем свидания с господином Тейлором, о том, что я им завербован, о том, что я снабжал его ведомство ценной информацией и что это я выдал гестаповцам коммуниста и партизана, скрывавшегося у меня под фамилией Чарушина… Да, она сказала все это, пытаясь утопить меня вместе с собой.
– Чем вы это можете доказать? – холодно спросил председатель.
– Спросите его! – с какой-то пронзительностью выкрикнула она, как бы нанося мне удар. – Почему он скрывает, что в Стокгольме на его текущем счету лежат пятьдесят тысяч долларов?
Все-таки она была убеждена, что деньги – это самое главное в мире!
Она привела факты и думала, что мне от них никуда не деться, но я даже не успел обратиться к суду.
– Вы можете быть свободны, товарищ Макаров, – повторил председатель с неизменной холодностью в голосе, но в глазах его засветилась какая-то теплота. – Суду известно, кем санкционированы ваши переговоры с генералом Тейлором, а что касается денег, переведенных на ваше имя… – Председатель назвал даже банк, на который был получен аккредитив, слегка наклонился в сторону Янковской и продолжал уже как бы специально для нее: – Что касается денег, они были получены по поручению товарища Макарова, и даже израсходованы, но только не на его надобности…
Я посмотрел на председателя суда, и он кивнул мне, давая понять, что я могу удалиться. Я пошел к выходу.
– Андрей Семенович! – внезапно услышал я за своей спиной дрожащий голос Янковской. – Все это неправда, неправда! Я все это говорила для того, чтобы вы разделили мою судьбу… Потому что… Да обернитесь же! Потому что я вас любила…
Но я не обернулся.
Я понимал, что ей хотелось исправить впечатление от своей лжи, но я хорошо знал, что и эти ее последние слова – такая же невозможная ложь, как и вся ее жизнь.