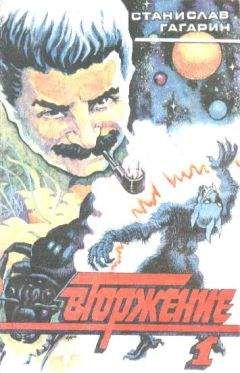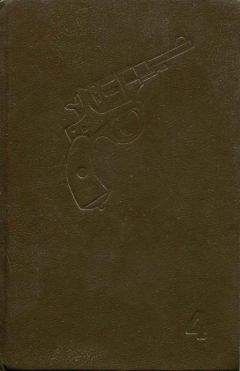Станислав Гагарин - Контрразведчик
— Точно.
— Конечно, Угрюмый сильно рисковал, но выдержке его нужно отдать должное. Потом он позаботился и о том, чтобы проверить, не осталось ли у Мужика родных… Но об этом уже расскажет сам Сергей Николаевич… Скажу лишь, что после свидания в госпитале с мнимым Мужиком и последующей беседы с врачами капитан второго ранга Румянцев написал две бумаги: наградной лист на всех троих… Постойте!
Леденев вскочил и обвел всех глазами.
— Понял! — воскликнул он. — Понял, почему вы так долго не получали свой орден, Панас Григорьевич! Угрюмый сообщил Льву, что погибли Клименко и Хлопец, то есть и вы тоже, Панас Григорьевич. Потому вы оба были представлены к награде посмертно, и понадобилось время, чтобы установить, что Гордиенко жив… Мы запросим копию наградного листа, но я уверен, что так оно все и было. Впрочем, у меня еще будет встреча с Румянцевым, придется ехать в Одессу…
— А санаторий? — улыбаясь, спросил Ковтун.
— Какой там санаторий! — отмахнулся Леденев. — Вторая бумага — рапорт Румянцева о тяжелом ранении Миронова, которое не позволяло ему находиться на разведслужбе. Так Угрюмый и остался в Понтийске. Но продолжайте свой рассказ, Сергей Николаевич…
— Это произошло полгода назад. Во время взрывных работ в Билибинском районе, что на Чукотке, я совершил накладку. Собственно, взрывник ошибается только один раз, но, видимо, везучий я… Правда, и ошибка тут относительная. Просто попался некачественный бикфордов шнур. Поджег я его как полагается, но взрыва не было. Выдержав все контрольные сроки, я пошел к шпурам. И тут на полдороге ухнуло. Как заключила комиссия — огонь, бежавший по бикфордову шнуру, дошел до испорченного места, где шнур стал просто тлеть, как трут. Затем, после паузы, шнур снова разгорелся, а я уже вылез из укрытия… Словом, шваркнуло меня о землю прилично, очнулся уже в магаданской больнице, куда меня вывезли самолетом. Очнулся от боли в груди, куда когда-то попали пули Угрюмого. Вот сюда.
Сергей Николаевич распахнул рубашку, и все увидели страшные следы, пересекавшие грудь от плеча до плеча.
— Это было моим первым ощущением — боль в груди. Как и тогда, в госпитале… Затем я увидел бледное пламя, бьющее из ствола «шмайсера», а за ним лицо человека в эсэсовском мундире. Я увидел это лицо — и все вспомнил. Говорили, что я закричал и потерял сознание.
Выздоровел я быстро и едва выписался из больницы, как взял отпуск и улетел в Москву. Мне нужно было найти тех врачей, что лечили меня, чтобы рассказать им о вернувшейся памяти. Теперь я не хотел быть Воиновым, мне нужна была фамилия моего отца. У меня были время и деньги, это ускорило дело, так как я разыскал своих школьных и вузовских товарищей, кое-кого из сослуживцев, которые письменно заверили, что я — это я. Побывал и на Смоленщине, в родной деревне. Ее больше нет, там теперь поле.
После войны решили не восстанавливать старое пепелище, а построить новый поселок для жителей сразу трех спаленных фашистами деревень. В поселке никаких записей не сохранилось, все сгорело. Но кое-кого я сумел найти из тех, что знали и моих родителей, убитых немцами, и меня самого. Заручился и справкой из сельсовета. Там же узнал, что после войны приезжал в эти места якобы мой фронтовой товарищ, рассказывал, что я погиб, все искал кого-нибудь из моих родных. Один старик помнил его, он останавливался у старика на ночлег. По описанию я узнал Штакельберга.
— Он хотел удостовериться, что Мироновым некому интересоваться, — сказал Ковтун.
— Видимо, так, — согласился Сергей Николаевич. — Рассказ о Штакельберге перетряхнул меня. Я понял, что он не ушел с немцами, и едва успел получить новые документы, вернее, не документы, а только справки для их получения, паспорт мне должны выписать в Магадане, по месту постоянной прописки, ну, словом, я решил ехать в Понтийск. Не знаю, почему именно сюда. Ведь Понтийск для Угрюмого был самым неподходящим местом.
— И все-таки он жил здесь, — сказал молчавший до сих пор Федор Курнаков. — В самом опасном месте.
— Может быть, его удерживало болезненное желание находиться рядом с местом совершенного им преступления, — задумчиво произнес Ковтун. — Такой выверт психики наблюдается у преступников.
— Тут у него была семья, — сказал Леденев. — Судя по всему, он дорожил ею. Правда, ему ничего не стоило уговорить Елену Федоровну уехать. Но, по ее словам, он даже ни разу не заикнулся об этом.
— Где-то подсознательно я был уверен, что встречусь с Угрюмым именно здесь, — сказал Сергей Николаевич. — Потому-то я и бродил по городу, по Балацкой бухте, по Лысой Голове, ожидая встретить Штакельберга с минуты на минуту.
— И вместо этой встречи едва не отправили меня на тот свет, — пошутил Леденев.
— Простите меня, — сказал Миронов. — Это я нечаянно столкнул камень, а он вызвал обвал…
— А что вы искали в нашем санатории? — спросил Юрий Алексеевич.
— Заведующий вашим отделением — один из тех врачей, которые лечили меня здесь, в Понтийске. Заходил к нему еще раз расспросить, при каких обстоятельствах попал в госпиталь…
— Ну а в горкоме вы были, чтобы узнать о подробностях деятельности понтийского подполья и отряда Щербинина? — спросил Леденев.
— Совершенно верно, — сказал Миронов. — Так оно и было.
— Да, вот как все просто, — произнес Юрий Алексеевич.
Русское море
Солнце дало о себе знать еще тогда, когда диск его скрывался за горизонтом. Море в этом месте сначала посветлело, затем в середине светлого пятна появилась темно-синяя сердцевина, она постепенно вытягивалась к берегу, а светлые края росли вширь, превращаясь в крылья. Уже выросли над горизонтом расходящиеся по окружности столбы-лучи, золотистый шар все выбирался и выбирался на поверхность, вот и наступило мгновение, когда возник краешек солнца, синяя дорожка к берегу превратилась в огненную, море вспыхнуло и окрасилось в голубой пламень, лучи достигли берега и возвестили всему живому о наступлении нового дня.
В этот день Леденев и Ковтун уезжали. Поднялись они рано и решили пойти к берегу, чтобы проститься с морем.
Они проходили городской площадью и остановились, склонив головы, у памятника Щербинину. Командир партизанского отряда стоял на мраморном постаменте, протянув обе руки к востоку, туда, откуда вставало солнце. Когда первые лучи коснулись бронзового лица командира, Леденеву вдруг показалось, что Щербинин улыбается…
Город постепенно просыпался. Уже спешили закончить свою работу дворники, появились тележки молочниц, к базарной площади торопились зеленщики, энтузиасты южного загара начинали тянуться к пляжу.
— Значит, Угрюмый утратил все прежние связи? — спросил Ковтун Юрия Алексеевича, когда они стали спускаться по каменной лестнице к морю.
— Да, — ответил Леденев. — Мои коллеги тщательно проверили всевозможные варианты. Он действительно сын немецкого специалиста, работавшего в Советском Союзе. Петер Штакельберг, так его звали. А судьбу его сына изуродовал фашизм. Десять лет учился Герман в нашей школе, в 1937 году вернулся с отцом в Германию, где стал активным членом гитлерюгенда. Было бы странно, если б молодым парнем, в совершенстве знающим русский язык, обычаи России, особенности советской жизни, не заинтересовалась секретная служба. С 1938 по 1940 год Угрюмый учился в специальной разведывательной школе, затем был заброшен в недавно образовавшиеся советские республики в Прибалтике. Три личные благодарности рейхсфюрера Гиммлера и благодарность самого Адольфа, есть и награды… Считался разведчиком экстракласса. В деле подшита копия рапорта Вайсмюллера, где штандартенфюрер сообщает, что штурмфюрер Герман фон Штакельберг пропал без вести при оставлении Понтийска германскими войсками. Шеф гестапо предполагает, ссылаясь на показания солдат, что Угрюмый погиб при артобстреле.
— Что нового дала поездка в Одессу? — спросил Иван Никитич.
— Почти ничего к тому, что мы уже знали, Румянцев не добавил. Правда, Лев сказал, что, получив сведения от Пекаря об агенте в отряде Щербинина, он сообщил об этом Мужику. Обитателям катакомб предстояло выйти на связь с Пекарем и тогда тот должен был показать им фотографию Угрюмого. Больше он ничего о нем не знал. Но случилось так, что к Пекарю послали самого Угрюмого. Стечение обстоятельств… Потом, в госпитале, Румянцев встречался с Угрюмым, принимая его за Мужика… Бывший начальник разведки рассказал мне, что он, собственно, и не разговаривал с ним, вернее, говорил он один, а мнимый Миронов, обвязанный бинтами, лишь мигал глазами.
— Пока вы были в Одессе, Юрий Алексеевич, — сказал доктор, — я постоянно размышлял над тем, каким был Угрюмый — к моменту своей смерти… Изменился ли он? Ведь, судя по рассказам сослуживцев, жены, знакомых, это был совсем наш человек. И чего ему было ждать, если, как вы говорите, его считали мертвым…