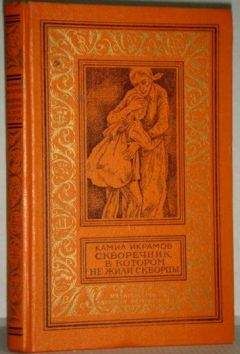Виктор Михайлов - По замкнутому кругу
Будет ли теперь Дуся счастлива?
«Боюсь, что нет, — мысленно рассудил он. — Зародившийся червячок сомнения не погиб, он ушел внутрь, притаился до случая. Как жаль! Дуся такой чистой души человек».
Заметив Холодову, она шла по боковой аллее парка, направляясь к нему, Никитин встал и пошел навстречу.
— Я назначил это свидание, — сказал он, — чтобы успокоить вас. Вам кажется, что я забыл о вашем искреннем желании помочь нам, но это не так. Предстоит еще очень много работы, и ваша помощь может понадобиться.
Когда Никитин оглянулся, он еще раз увидел Холодову. Она медленно шла по аллее, прислушиваясь к крику грачей, разглядывая яркие краски цветочных клумб.
Горе еще так цепко держало ее, что ей казалось странным и непонятным извечное движение жизни — листья деревьев, и сбившиеся в стаи грачи, и холодная синева неба. Все это неоспоримо существовало рядом с ней, с ее большим горем утраты.
«ПИРАМИДА»
В тот день, когда Холодова встретилась с Никитиным в славоградском парке, в то же предвечернее время электричка пригородного сообщения Москва — Гжель шла на предельной скорости.
У окна вагона сидел полный пожилой гражданин, одетый в костюм светло-кофейного цвета. Взглянув в окно, он свернул газету, засунул ее в карман пиджака, снял с крючка хозяйственную сумку с несколькими запечатанными пакетами крупы, надел фетровую шляпу и направился к тамбуру. Он двигался устало, как человек, отработавший утомительный рабочий день.
Поезд подходил к станции, одновременно на подходе был встречный Гжель — Москва.
На станции гражданин в светлом костюме открыл противоположную дверь тамбура, спустился вниз и с не свойственной для его возраста легкостью поднялся в вагон электрички, идущей в обратном направлении.
Три перегона гражданин стоял в тамбуре, наблюдая через окно за быстро сменяющимся пейзажем Подмосковья. На станции Быково он сошел одним из последних и направился в закусочную.
Посетителей было мало. Потягивая из кружки пиво, гражданин читал газету. Через двадцать минут, посмотрев на часы, он расплатился и быстро пошел к платформе. Подходила очередная электричка.
Гражданин вышел из поезда на пятьдесят втором километре. Сначала он свернул в сторону, противоположную движению поезда, затем вошел в лес и, легко ориентируясь, нашел нужную тропинку. Он шел быстро, временами останавливался, прислушивался и снова шел вперед. В густом подлеске он остановился и, весь превратившись в слух, замер: еще далеко, но с каждой минутой явственнее слышался шелест листьев и хруст сучьев под ногами. Появился парень, фальшиво с чувством насвистывающий песенку.
Под резким углом тропинка сворачивала влево. Завернув в эту сторону, гражданин в светлом костюме притаился за густыми зарослями ольшаника.
Когда шаги парня затихли, гражданин в светлом костюме вышел из ольшаника и, вытерев платком вспотевше лицо, пошел в том же направлении.
Вот и поселок Красные сосны. Учуяв чужого, гремя цепями, залились лаем сторожевые псы. Гражданин остановился подле маленького, крытого щепой домика и дернул за кольцо калитки. Калитка подалась. Он вышел на дорожку, усаженную по краям махровыми георгинами, и направился к дому. Большая овчарка, угрожающе рыча, бросилась к нему навстречу. Гражданин тщательно закрыл щеколду и не торопясь пошел к дому. Дверь была открыта. Он вошел в сени, опустив за собой крючок, потянул за ручку внутреннюю дверь, обитую некрашеным рядном.
В комнате на столе, крытом белой скатертью, деловито шумел электрический кофейник. Пузатая бутылочка с ликером, бисквит и два прибора свидетельствовали о том, что гостя здесь ждали. В кресле у окна, лицом к двери, сидел человек в пижаме, испачканной масляными красками, обутый в стоптанные войлочные туфли. Он молча, с какой-то затаенной усмешкой наблюдал за вошедшим.
Гражданин повесил сетку с кульками крупы на гвоздь возле двери и осмотрелся. На беленных известью стенах висели пейзажи Подмосковья, писанные маслом. Напротив — диван, скромный сервант, правее — мольберт, в левом углу — большое зеркало в старинной резной раме.
Вынув из кармана авторучку, гость нажал кнопку — вспыхнул узкий, но сильный луч света, — подошел к зеркалу и направил на него свет. Отражаясь, луч скользнул по амальгаме. Видимо удовлетворенный этим, он открыл маленькую дверь и вышел на кухню; осмотрев ее, вернулся в комнату и, сняв шляпу, протянул хозяину дома узловатую, с подагрическими пальцами руку.
— Ну, здравствуй, Хельмут! Я доверяю тебе, но наше дело требует особой осторожности. Недавно в отеле «Самбор» проследили канадскую явку и сфотографировали резидента и двух агентов вот через такое, как у тебя, зеркало.
— Если ты не привел за собой «хвост», мы в полной безопасности, — сказал хозяин дома и пригласил гостя к столу.
— Кстати, перед тобой Вильгельм Праццих, турист из Берна. Вильгельм Праццих вне подозрений.
— Ты все такой же, как был…
— Точнее?
— Самодовольный и не по возрасту наивный дурак! — беззлобно бросил Хельмут.
— Я слишком давно знаю тебя, Хельмут Мерлинг, чтобы обидеться…
— Посылая тебя в Москву в качестве туриста, шеф ничем не рисковал. Сойдет гладко — хорошо! Завалишься — еще лучше!
— Я не понимаю…
— Повод для большой политики — честного туриста из нейтральной Швейцарии подозревают в шпионаже! Как же после этого возможен обмен туристами с русскими?
— Ну, до этого не дойдет! — сказал Праццих, прихлебывая кофе.
— Я надеюсь! — бросил Хельмут и налил в рюмки ликер.
Рассматривая на свет густую маслянистую жидкость в рюмке, гость примиряюще сказал:
— Бывает же, Хельмут, чтобы кличка так пришлась человеку, как тебе, «Грау» — «Серый». Когда впервые мы встретились с тобой, мы были желторотыми юнцами, но ты уже тогда был «Серый» — прекрасный цвет человеческого камуфляжа! Прошло много лет, а время нисколько тебя не изменило: ты все такой же, как был, — серый. Вот этого шрама, насколько я помню, у тебя не было.
— Серый не только унылый цвет камуфляжа. «Серый» — по-русски «волк». Если бы ты лучше владел языком, ты бы об этом знал. — Немного помолчав, Хельмут сказал: — Вчера я бродил в Москве по Немецкому кладбищу.
— Ты все такой же, Хельмут, шутник…
— Я читал готические надписи надгробий… — Он не слышал реплики Працциха. — Я очень устал, дорогой Фридрих, устал и хочу домой, в Нейграбен. Мне шестьдесят лет, из них сорок постоянного напряжения. Ты должен меня понять. Сорок лет я не был человеком. Волк без стаи. Один. Я не мог, как все, любить, радоваться первому лепету ребенка. Слышать, как наливается соком земля, моя земля. Как сладко ноют натруженные руки. Как тихо за трубкой течет беседа открытого сердца… — Он отпил глоток кофе и, не глядя на гостя, сказал: — Загнанный зверь…
Наступила продолжительная пауза. Было слышно, как, перелетая с шестка на шесток, в клетке, висящей на окне среди чахлых зеленых ветвей «бабьих сплетен», тихо посвистывал нахохлившийся кенар «тирольского» напева.
Хельмут криво усмехнулся, сказав:
— Казалось, встретились два разведчика, у них много неотложных дел и мало времени, но… Пойми, Праццих, мне так редко удается быть самим собой. С кем я могу поговорить? Кто может понять меня? С годами приходит горечь похмелья. Отец погиб под Верденом. Его остроконечная каска и Железный крест с короной и монограммой Вильгельма лежали перед портретом в траурной рамке. Это была семейная реликвия и символ моего будущего. Мы говорили о реванше. Мы жили идеей реванша. Во имя этой идеи мы истребили не одно поколение нации. Огонь возмездия испепелил наши города, и что же? Проходит два десятка лет, и снова мы говорим о реванше?..
— Да, но времена, Хельмут, меняются. В прошлом столетии гений Бисмарка привел прусские войска в Париж ценою «железа и крови». В сороковом году мы оккупировали Францию, не пожертвовав ни одной дивизии. Колесо истории, Хельмут, вертится!
Увлеченный собственным красноречием, Праццих, размахивая руками, ходил по комнате.
— Ты прав, колесо вертится, словно в тридцать третьем[14], - в раздумье сказал Хельмут. — Только ось колеса окончательно сгнила.
— Нет, Хельмут, колесо германской истории на прочной оси! Новые времена — новые партнеры. Европа отвергла «новый порядок» Гитлера, она получила «объединенную Европу». Те же сосиски, но с другим гарниром! — Он подмигнул Хельмуту и, загнув палец, добавил: — Общий рынок — раз! Атомный пул — два! — Он загнул второй палец. — Еврафрика — три! Между двух сил, Америкой и Россией, «третья сила» даст возможность создать политическое равновесие. Для того чтобы создать новые германские армии, надо использовать экономические ресурсы Европы. Такова логика событий, или старая песенка на новый лад.

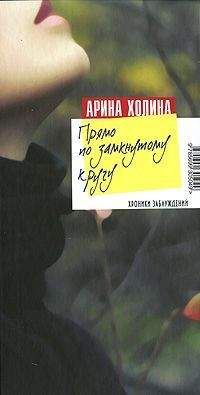

![Юрий Мишаткин - Особо опасны при задержании [Приключенческие повести]](/uploads/posts/books/133581/133581.jpg)