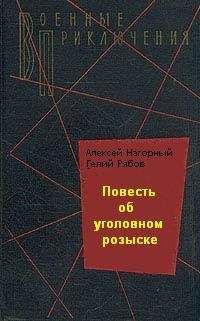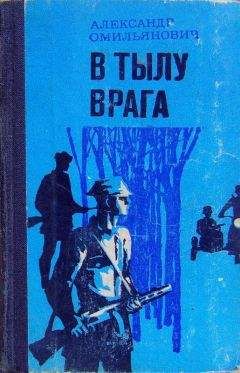Алексей Нагорный - Я — из контрразведки
— Блистательная лекция. Вы ее повторите Климовичу, когда ваш «плохой» Коханый расколется, как гнилое полено?
— Не знаю, — хмуро сказал Марин.
— Все решится сегодня, я думаю, — голос Зинаиды Павловны изменился. Теперь она говорила твердо и решительно: — Вам предписано сидеть дома?
— Нет!
— Прекрасно. Идите к Климовичу, напомните ему о том, что он поручил вам портовый завод. Исчезните под этим предлогом до вечера. Сюда не возвращайтесь. Встретимся у лестницы, которая ведет в ставку.
— Когда?
— Постарайтесь найти такое место, с которого видно мое окно. Увидите задернутую штору — сразу же идите к лестнице.
Марин ушел. Зинаида Павловна открыла верхний ящик комода и приподняла стопку белья. Под ней лежал маузер, подарок Климовича. Проверила магазин — он был полон, передернула затвор и поставила пистолет на предохранитель, но потом передумала и вернула флажок в боевое положение: теперь можно было стрелять сразу.
В дверь осторожно постучали, она открыла и увидела улыбающегося Скуратова.
— Мадам… — он попытался поцеловать ей руку, но она уклонилась, и он сказал: — Генерал отправил нашего общего друга в порт и приказал осмотреть его номер.
— И вы решили сообщить об этом мне? Очень мило, благодарю.
— Пожалуйста. Вам приказано сопровождать меня. Я думаю, что генералу захочется сопоставить наши впечатления, как вы считаете?
— Идемте.
У номера Марина пританцовывал горбатенький портье. Он услужливо распахнул дверь и сложился в поклоне.
— Пошел вон, — тихо сказал Скуратов. — И нишкни у меня, подлец. — Он запер двери изнутри, оценивающим взглядом посмотрел на Зинаиду Павловну. — Вы всегда мне очень нравились, сударыня.
Она ничего не ответила, и Скуратов продолжал:
— Бывают женщины, которые не шевелят во мне струны, а бывают…
— Значит, я шевелю… ваши струны? — перебила она с плохо скрытой издевкой.
Скуратов покраснел и набычился.
— Вы язвительная и злая особа, я это сразу понял, но здесь, в номере, вы, между прочим, в моей власти, и стоит мне захотеть…
— Захотите… — сказала она насмешливо.
Он сделал шаг ей навстречу, но она отскочила и сунула руку в сумку:
— Мой указательный палец на спусковом крючке маузера. В обойме — разрывные пули, на сто шагов череп разлетается на куски. Между нами, по–моему, не будет и трех шагов…
— Ладно, — он улыбнулся, — я пошутил. Чувство юмора — великое чувство, согласитесь? Приступим к делу. — Скуратов выдвинул из–под кровати чемодан, открыл. Там было белье, пара золотых погон и несколько книг. Он начал просматривать верхнюю, прочитал вслух: — «Наличное бытие есть единство бытия и ничто, в котором исчезла непосредственность этих определений и, следовательно, исчезло в их соотношении их противоречие, единство, в котором они уже суть только моменты». — Он поднял на Зинаиду Павловну голубые глаза, в них было недоумение и обида: — Это что? Какой идиот это написал?
Она взяла книгу из его рук и открыла титульный лист:
— Гегель. — И видя, что это имя не произвело на него ровно никакого впечатления, добавила: — Он одесский подпольщик. Мы его расстреляли в девятнадцатом.
Скуратов смотрел на нее с тревожным недоумением, и она видела, что он растерян и не знает: верить ей или нет. Ей стало скучно и противно. Она швырнула книгу в чемодан и захлопнула крышку.
— Вы намерены обнаружить здесь листовки большевиков? Тогда бы вам надо было принести их с собой и подложить в этот чемодан — очень надежный, много раз проверенный способ.
— Сударыня, — выкрикнул он, — я требую, я требую…
— Да бросьте… — махнула она рукой. — Что нам с вами, привыкать, что ли? Если у вас все, я пойду, пожалуй, голова болит.
Скуратов выдвинул ящик письменного стола, и глаза его засверкали:
— Мадам, — закричал он, — я нашел! Слушайте, это потрясающе… — Он протянул ей плотный лист белой бумаги. Она взяла его в руки, перевернула и вдруг волна щемящей нежности захлестнула ее всю целиком, без остатка. Это был портрет, ее портрет. Он был писан акварелью, тонко, в лучших традициях русского портретного искусства прошлого века. Так писал знаменитый Петр Соколов.
— Он, наверное, мечтает о вас, — теперь пришла пора поиздеваться Скуратову. — Ишь как? Старался… как этот… Репин.
А она смотрела, смотрела… На портрете у нее было робкое беззащитное выражение лица, печальные глаза. Она никогда не видела себя такой и никогда не думала, что она такая… И вдруг поняла, что Марин любит ее, любит на самом деле, ибо только любящий человек может проникнуть в глубоко скрытую сущность того, кого любит.
Скуратов взял лист из ее подрагивающих пальцев, посмотрел и снова перевел взгляд на нее:
— А вы добренькая, оказывается. То–то я удивился вашему выступлению в доме этого Акодиса. Думаю себе: гроза большевиков Лохвицкая, и вдруг — жалость. С чего бы это, думаю?
— Я могу идти? — холодно спросила она.
— Конечно. Я сейчас поеду допрашивать Коханого, потом встретимся у генерала.
Они вышли из номера. Скуратов тщательно запер дверь и послал Зинаиде Павловне воздушный поцелуй.
Она вернулась в свою комнату. Было тревожно. Она понимала, что сейчас, через несколько минут окончательно и бесповоротно решится судьба Марина. Чем ему помочь? Нечем… Она ничего не может… Разве что умереть вместе с ним. Она отчетливо представила себе лицо Скуратова, близко–близко увидела его злобно–глуповатые голубые глаза, потрескавшиеся губы, которые он ежеминутно облизывал, и вдруг вспомнила, как он сказал: «Поеду допрашивать Коханого».
— Поеду, — повторила она вслух.
Как же так? Коханый здесь, в подвале гостиницы, зачем же ехать? И тут же снова вспомнила, что тогда там, в суде, Скуратов приказал своему унтер–офицеру везти Гаркуна в какой–то особняк на Мичманскую. Она подскочила к окну и увидела, как двое унтер–офицеров сажают в пролетку Коханого. На запястьях у него матово блеснули стальные наручники.
— Ступайте! — услышала она голос Скуратова. — Я сам. — Скуратов сел рядом с Коханым, расправил вожжи. — Э–э, залетные!
Лошади резво взяли с места. Зинаида Павловна заметалась в растерянности. Она поняла: Скуратов что–то задумал, иначе зачем бы ему понадобилось увозить арестованного из контрразведки. Она сбежала по лестнице вприпрыжку, словно гимназистка, и вылетела на улицу. Как и обычно, у подъезда гостиницы стояло множество экипажей, и она поблагодарила судьбу за то, что спасительная мысль проследить за Скуратовым вовремя пришла ей в голову. Она села в первый попавшийся экипаж, крикнула кучеру:
— Трогай и побыстрее! — И добавила уже тише и спокойнее: — Я покажу дорогу.
Лошадь резво взяла с места и понеслась вскачь. Зинаида Павловна приподнялась на сиденье и из–за плеча кучера старалась рассмотреть, что же там, впереди. Мелькали дома, прохожие. Коляска резко кренилась на поворотах, казалось, вот–вот опрокинется. Наконец, показалась пролетка Скуратова. Рядом с ним по–прежнему сидел Коханый.
— Тише, — приказала Зинаида Павловна кучеру. — Стой!
Скуратов тоже остановил лошадь и вышел из пролетки. Помог спуститься Коханому и подвел его к калитке в красивом высоком заборе из кованых прутьев. Открыл калитку и повел в глубь заросшего сада к аккуратному одноэтажному домику из красного кирпича.
— Езжай, братец, — Зинаида Павловна отпустила кучера и перешла на другую сторону улицы.
Дом отсюда был виден очень хорошо: Скуратов стоял на крыльце и вертел флажок звонка. Через некоторое время открылось квадратное окошечко и показалось знакомое лицо Стецюка. Скуратов переговорил с ним о чем–то, двери домика распахнулись, пропустив приехавших, Стецюк внимательно осмотрелся и закрыл дверь. И тогда Зинаида Павловна поняла: этот дом на Мичманской, этот сад, это все было самым тайным и самым страшным местом врангелевской контрразведки. О нем ходили легенды, но до сих пор Зинаида Павловна не встретила ни одного человека, который смог бы ей рассказать хотя бы какие–нибудь подробности. По роду своей деятельности она не имела ни малейшего отношения к раскрытию и расследованию деятельности большевистского подполья и, будучи профессионалом розыска, хорошо понимала, что любая контрразведка — это множество автономных, независимых друг от друга подразделений, работающих в обстановке строжайшей секретности. Понимала она и другое: сейчас Коханого начнут пытать, и он заговорит. Она это чувствовала и, в отличие от Марина, ни одной минуты в этом не сомневалась. Если Коханый откроет рот, Марин погиб. Она пересекла улицу, открыла калитку: на ней не было ни замка, ни даже щеколды — и решительно направилась к крыльцу. Когда до него осталось всего несколько шагов, она рассмотрела окна особняка: за тщательно вымытыми, поблескивающими стеклами чернели наглухо закрытые шторы. Она повернула флажок звонка, послышалось дребезжащее звяканье, распахнулось окошечко, Стецюк оглядел ее с ног до головы.

![Алексей Нагорный - Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]](/uploads/posts/books/153335/153335.jpg)