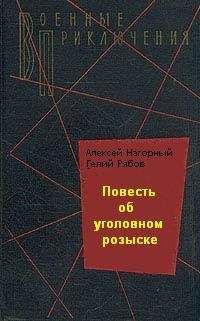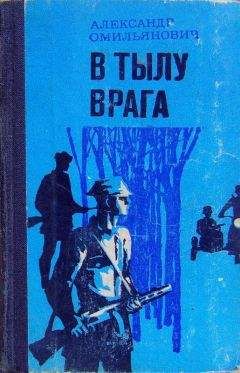Алексей Нагорный - Я — из контрразведки
— Да, — поручик встал и застегнул воротник кителя. — Господин полковник, мы знаем, что в комнате, где злодейски умертвили государя, было какое–то странное изречение. На обоях.
Марин знал, о чем шла речь. Подробная запись об этом имелась в тетради Юровского. Он тут же поймал себя на мысли, что правильно в свое время отнесся к поведению и мнимой откровенности своего бывшего друга. Крупенский об этой части екатеринбургских событий умолчал, а дело было в следующем. Когда Юровский пришел после исполнения приговора на первый этаж в комнату, ту, в которой были расстреляны Романовы, около двери в кладовую он увидел надпись, нацарапанную карандашом. Она была сделана там, где упала после выстрела «сенная девушка» Анна Демидова.
— Обои в этой комнате полосатые, под ситчик, — медленно, словно вспоминая, начал Марин. — Справа под единственным зарешеченным окном кто–то нацарапал по–немецки: «Валтазар вард ин зельбигер нахт фон зайн кнехтен умгебрахт». Это двадцать первая строфа стихотворения Гейне «Валтазар», — продолжал Марин. — Я переведу: «В эту самую ночь Валтазар был убит своими холопами».
— Кто же это написал? — ошеломленно спросил поручик. Было видно, что рассказ Марина потряс его, да и всех остальных тоже.
— Этого не смогли выяснить ни чекисты, ни мы, — сказал Марин.
— Я помню это стихотворение по–русски, — очень тихо сказала Лохвицкая. — Вот оно: «Мгновенно замер безумный смех и мертвый холод объял всех, и вдруг, о ужас, на стене рука является в огне и пишет. Буквы под перстом горят одна за другой огнем. И ни единый маг не смог истолковать тех пламенных строк. И в ту же ночь не взошла заря — рабы зарезали царя». — Лохвицкая встала, подняла бокал. — Господа, в этом стихотворении мистическая правда. Были буквы на стене, было предостережение, не было только людей около государя, которые бы могли истолковать его. Я бы так хотела, чтобы моя Россия стала иной, чтобы правили ею достойные люди и чтобы опирались они на достойных людей! — Она выпила залпом и швырнула бокал через левое плечо.
Он разлетелся на куски со звоном. Офицеры возбужденно обсуждали услышанное, им уже было не до Марина, а он молча уставился в тарелку и думал, думал о том, что сейчас его спас Юровский…
Его размышления прервал поручик.
Пьяно всхлипывая, он влез на стол и заорал на весь зал:
— А я не верю, не верю, и все! Император жив, и мы еще встанем под его знамена! — и, подавив рыдание, запел срывающимся голосом: — У нас у всех одно желанье: скорее добраться до Москвы, увидеть вновь коронованье, спеть у Кремля аллаверды!
Офицеры дружно подхватили знаменитый дроздовский марш…
Ленин просматривал утреннюю почту. Вошла Фотиева и положила на край письменного стола дешифрант телеграммы Белобородова с Кубани: «Врангель высадил десант и ставит своей целью отрезать от республики один из самых плодородных, районов страны».
«И конечно же, вызвать там восстание против Советской власти, — подумал Ленин. — И тем самым затянуть кампанию до зимы и на зиму, и тогда…»
Ленин вызвал Дзержинского. Тот приехал через двадцать минут и молча выслушал неприятную новость.
— Ваше мнение? — сухо спросил Ленин. Эта сухость была вызвана волнением, которое в таких случаях Ленин всегда старательно сдерживал, и проявлялось оно только вот в таких сухих, отрывистых фразах.
— Думаю, что это громадная опасность, — сказал Дзержинский.
— Опасность? — переспросил Ленин. — Нет, это не опасность, это крах, если вам угодно знать. Восстание на Кубани теперь — это крах, Феликс Эдмундович. Давайте не будем страусами. Требую, чтобы вы немедленно, экстренно приняли самые неотложные меры. Нельзя допустить восстания. Не жалейте ни сил, ни средств. Если нужно, подключите военных.
— Я понял, Владимир Ильич.
— Вы знаете, как обстоят дела в Крыму?
— Да. Врангель предпринял неожиданное наступление на Мариуполь.
— Неожиданное? Нет, «неожиданное» наступление — это оправдание плохих военных. Следовало ожидать. Врангель — искусный стратег, он окончил Академию генерального штаба, и Кутепов совсем неплохой командир. Они умеют искусно маневрировать, а у некоторых наших военачальников закружилась голова: как же, «от сохи» и так изрядно побили образованных царских генералов? Плохо, очень плохо! Голова всегда должна быть холодной, тогда не будет «неожиданных» наступлений, не будет тысяч погибших зря. И еще вот что хотел я у вас спросить: что сделано по письму харьковских чекистов? По делу этого мерзавца? Рюн, кажется, так?
— Рюна больше нет, Владимир Ильич. С ним покончено.
— Товарищ, который выполнял задание, вернулся?
— Он в штабе Врангеля, Владимир Ильич.
— Вот как… Его необходимо представить к награде. У него есть семья?
— Только тетка здесь, в Москве.
— Позвоните ей, успокойте, скажите, что у него все в полном и несомненном порядке.
— Хорошо, Владимир Ильич, только несколько позже, — улыбнулся Дзержинский.
С Приморского бульвара доносился вальс, его играл военный оркестр. На рейде мерцали огни кораблей, накатывая на берег, серебристо высверкивали волны. Марин бросил в воду плоскую гальку и зачарованно считал:
— Раз, два, три… Загадал, сколько нам жить, — повернулся он к Зинаиде Павловне.
— Это не кукушка, — грустно сказала она. — Та и сто лет накуковать может, а вы больше семи всплесков не добьетесь, я знаю.
— Семь всплесков на одну жизнь — это прекрасно, — улыбнулся Марин. — Это редко бывает. Знаете, я думаю, что и один всплеск — чудо!
Кончилась еще одна проверка. Что они придумают в следующий раз? И эта женщина, эта странная женщина… такая нежная, такая чужая… Она ведь никогда не изменит своим убеждениям. Никакая любовь, страсть, одержимая, всепоглощающая, не столкнет ее с однажды избранного пути, тем более теперь, когда ее корабль тонет. Нет, она этот корабль не покинет и погибнет вместе с ним. Но тогда бог с ней, тогда обыграть ее, она ведь сильный равноправный партнер, она–то играет? Или нет? Обыграть ее, и пусть мертвые погребают своих мертвецов…
Он спросил себя: «А ты? Ты изменил бы ради любви, ради сыновьего долга? Ради того, чтобы спасти жизнь дорогого и близкого человека? Нет, не изменил бы никогда. Отдал бы свою жизнь, чтобы спасти, избавить, но и только. Тогда почему требовать этого от нее? Потому, что правда у него. Нет, еще не сама правда, а только стремление к ней, беззаветный и сжигающий порыв. Если его сохранить на долгие годы, правда придет, восторжествует. Разве ради этого не стоит отдать жизнь, сгореть и увлечь за собой других, даже из стана врагов? Ведь эти враги — такие же русские люди, родившиеся здесь, на этих зеленых полях, под этими белоствольными деревьями, под этим грустным ситцевым небом… Им надо только объяснить, открыть глаза, доказать, и они поймут: ведь уже миллионы и миллионы поняли. Должны понять и эти, последние. Их ведь только тысячи…
— Наши вот–вот возьмут Мариуполь, — сказала Зинаида Павловна. — Может быть, еще и повернется все?
— Может быть.
— Пленных много. Контрразведка свирепствует: расстрелы, расстрелы… В горах банды Орлова и Макарова, а ведь оба они офицеры, дворяне, люди чести, казалось бы… Я ничего не понимаю, перестаю понимать. Красные гуманнее нас? Как вы думаете?
— Думаю, что да.
— Почему?
— Потому что их сто пятьдесят миллионов. Они чувствуют свою неистощимую силу. Сильный всегда Добрее.
— И справедливее?
— Они справедливы. Не всегда, конечно… Ошибаются подчас, жестоко, с кровью, но это издержки, и они пройдут. Красные — хозяева России. Этим сказано все.
— А нашим… навсегда предстоит покинуть родину… И они зверствуют, теряют человеческое лицо, — задумчиво сказала Зинаида Павловна.
— Наверное, вы правы.
— Я подумала, что в наших рядах все меньше и меньше порядочных людей, — она швырнула в воду камень, он запрыгал по склону неторопливо накатывающих волн: один, два, три, четыре всплеска.
— Вам предстоит долгая и счастливая жизнь, — улыбнулся Марин.
Но Зинаида Павловна отрицательно покачала головой:
— Вы думаете, я фанатичка? Палач? На моих руках нет крови.
— То есть… как? — опешил Марин. — Зинаида Павловна, у меня хорошая память, к сожалению…
— Да, я это сделала, скомандовала «Пли!»… Но ведь это нужно было вам, Владимир Александрович. — Она смотрела ему в глаза, тоскливо, обреченно, словно собака, ожидающая выстрела из хозяйского ружья… Не по дичи, по себе самой.
Выполняя приказ Марина, Коханый познакомился с начальником складской команды фельдфебелем Загоруйко. Когда он пригласил Загоруйко посидеть в распивочной на Приморском бульваре, тот сказал, что Коханый должен уважить и двух унтер–офицеров, пригласить на выпивку их тоже.

![Алексей Нагорный - Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]](/uploads/posts/books/153335/153335.jpg)