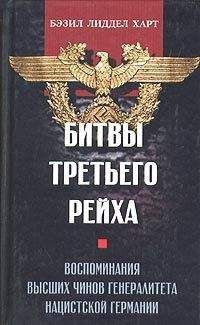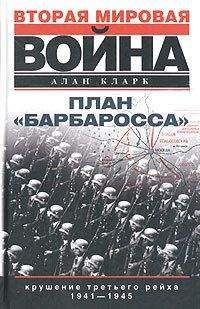Александр Тараданкин - Второй раунд
Но это только казалось. Он, Фомин, был поставлен на такой участок, где война не прекращалась ни на минуту. С рубежа, на котором он очутился, отчетливо проглядывалось движение сил, противостоящих миру, плетущих сети шпионажа и диверсий против его страны и государств, народы которых решили идти путем социализма.
События тех дней с поразительной ясностью вставали перед ним.
Он увидел красные черепичные крыши и шпили немецких городов за густой стеной зелени. И бетонные автострады, серым широким полотном скользящие под машину. Лесопарки с прямыми, как струны, просеками. Битый кирпич руин, хранящих запах дыма, и тихие дворики, заплывшие ароматами цветущих роз, и стены, сплошь увитые плющом.
И везде люди. И все они разные.
Прежде всего он стал думать о своих друзьях, с удивлением отмечая, что с трудом восстанавливает в памяти их лица. Даже досадовал на себя за это. Но что сделаешь — прошло столько лет.
Кторов, человек, которого тогда в Энбурге видел и слышал каждый день, у кого учился и кому старался подражать. Казалось бы, закроешь глаза — и увидишь, как на фотографии. Так нет: помнил только седую прядь и его усталые глаза, очень внимательные.
Рощин. Кто-то говорил, что он командует пограничным отрядом в Туркмении. Широкоплечий, быстрый и точный Рощин. А лицо забыл. Только зубы — ровные, крепкие зубы, когда тот улыбался. Смеялся Рощин раскатисто, заразительно.
А Гудков? Стал крупным архитектором, видел его по телевидению, в кинохронике, читал его статью в «Огоньке». Несколько раз говорил по телефону. А вот встретиться так и не пришлось…
Скиталец. Совсем тогда юным был лейтенант. Краснел, как ребенок, при грубом слове. А последний раз встретил — мужик что надо, изменился, видно, и характером; стал строже, собранней. Скитальца он хорошо себе представил, потому что недавно виделся с ним.
«Эх, Скиталец, Скиталец, — подумал Фомин, — если бы ты тогда не ошибся, лежало бы это дело с прекрасной пометкой на обложке: «Закончено тогда-то». Впрочем, можно ли тебя винить… в той ситуации, пожалуй, каждый бы…»
А враги?
Он напряг память, пытаясь вспомнить Лютце. Нет, не получалось…
А как же Петров? Это, пожалуй, можно объяснить: если бы я сам увидел Лютце, непременно тут же бы вспомнил. Так уж устроен человеческий мозг. Ведь уже, кажется, случалось так.
Каким же ты был тогда, господин Макс… Курт… Ганс, — у тебя было много имен. Какое ты носишь сейчас?..
Глава вторая
Ночь выдалась на редкость теплой и тихой, лучше не придумаешь для несения дозорной службы: иди себе да слушай тишину. Вокруг такой покой, что нет-нет да и начинают тяжелеть веки. Только к утру подул свежий ветерок, и тогда поползли по спине холодные веселые мурашки, а скулы начала потягивать нервная зевота.
— Пойдем поживее, — сказал товарищам старшина Петров и прибавил шагу.
Его наряд, спаренный с двумя служащими пограничной немецкой полиции — парнями только-только начавшими постигать службу, — за ночь обошел все положенные ему маршруты и теперь возвращался в комендатуру. Оттуда, судя по времени, им навстречу уже вышла смена и теперь, с минуты на минуту, должна была появиться. Шли по узенькой тропке, кланяясь нависшим веткам кустарника, шли зелеными росистыми полянами, окунаясь в сырое дыхание низин.
А справа была межзональная граница, полоса, проложенная войной два года назад, определенная Потсдамским соглашением 1945 года. С тех пор как Петров приехал сюда, многое изменилось. Местные жители, немцы, вначале смотрели выжидательно на русских солдат в зеленых фуражках и погонах, стараясь понять, что это за род войск и чего от них следует ожидать? Но шло время — привыкли. А когда увидели, что рядом с этими русскими стали ходить их молодые соотечественники, прониклись к людям в зеленых фуражках доверием. Среди местных жителей у Петрова завелись даже друзья, благо он довольно хорошо знал немецкий.
Утро быстро высветило небо. Лес, еще несколько минут назад казавшийся сплошным забором, начал редеть, деревья словно отодвинулись друг от друга.
— Товарищ старшина, — тихо окликнул сзади солдат.
Петров обернулся и посмотрел туда, куда указал рукой пограничник. Через кустарник от границы шел человек. Шел не прячась, открыто, демонстративно. Увидев солдат, замахал руками, направляясь к ним.
— Здравствуй, комрады! — громко и радостно крикнул он, когда подошел ближе. — Я до вас. Мне треба в город по очень важному делу, — быстро заговорил он, мешая русские, польские и украинские слова.
— Стой, — перебил его Петров. — Руки вверх!.. Оружие?
— Нет, — сказал незнакомец, однако послушно поднял руки и без тени обиды дал себя обыскать, даже кивнул одобряюще: мол, раз так надо, давайте.
— Зачем в город? — спросил Петров.
— К пану коменданту. Мне нужно много ему говорить. Да, да, поверьте. Я рабочий, поляк, Сигизмунд Вышпольский. Можно, комрады, я до вашего пана начальника… Я маю важный документ про шпиона.
— Мне ничего объяснять не надо, — сказал Петров. — В комендатуру мы вас и без вашей просьбы отведем. Там все и расскажете. Руки за спину и идите вперед!
Поляк кивнул, поднял с земли свой прорезиненный плащ, брошенный при обыске, перекинул его через плечо и, заложив руки за спину, пошел по тропинке, сопровождаемый пограничниками.
Навстречу шла смена…
2Дежурство подходило к концу, голова была тяжелой, и Фомину так хотелось забыться хоть на минутку. Он решительно встал и растворил все окна приемной. Вместе с утренней прохладой в комнату ворвались свежие запахи цветов и деревьев. Душистый сквозняк взбодрил, голове стало легче.
Большой город, такой шумный в будни, сегодня еще не просыпался. Воскресенье. Люди отдыхали. Лишь редкие трамваи медленнее, чем обычно, словно крадучись, проезжали по улицам.
Особняк бежавшего на Запад, преуспевавшего при Гитлере медика-фашиста не был приспособлен под учреждение. Однако с этим приходилось мириться. За три недели до конца войны город разрушили бессмысленные к тому времени бомбардировки англо-американской авиации. Теперь людям остро не хватало жилья, и трудно было подыскать помещение для служебных целей. Помпезный особняк пришлось несколько перестроить, переоборудовать.
Фомин сидел в комнате, до того просторной, что никак не мог к ней привыкнуть. Он уже много раз придумывал проект самоуплотнения: разгородить бы.
Хрипло заурчал телефон:
— Капитан Фомин слушает, — глаза остановились на крошечном табло, вмонтированном в аппарат, оно предупреждало: «Внимание, код! Внимание, код!»
— Здравствуй, Евгений Николаевич, — узнал он голос Рощина, заместителя начальника комендатуры Мариенборн. — Не разбудил?..
— Не положено дежурным спать, товарищ старший лейтенант. А ты, Саша, чего в такую рань?..
— Тоже дежурю. Служба наша, брат, такая. И дело есть срочное.
— Что там у вас стряслось?
— Находится у меня тут некто Вышпольский. Рассказывает любопытные вещи, только касаются они вас. Если не возражаешь, я тотчас пошлю его со старшиной Петровым. Он, кстати, и привел сюда этого Вышпольского от границы.
— Значит, с той стороны?.. Присылай, конечно. Сейчас распоряжусь, чтобы пропустили в проходной.
Фомин вызвал караульного начальника.
3— Товарищ капитан, мною доставлен к вам задержанный Вышпольский, — доложил Петров. — Вот документы, — и он положил на стол большой серый конверт.
— Спасибо, старшина — Фомин пожал Петрову руку. Они были старые друзья-знакомые, если можно так назвать двух людей, которым часто приводилось встречаться по работе и делать общее дело, нередко связанное с опасностями и риском для жизни. Сдружили их и совсем не служебные обстоятельства: оба любили стихи, остальным поэтам предпочитали Пушкина, Есенина и Блока, оба сами пытались писать. А однажды Петров доверил Фомину пухлую тетрадь, исписанную бисерным почерком, и капитан не без удовольствия прочитал несколько рассказов и цикл военных стихов старшины-пограничника. Но своим литературным увлечениям они, увы, могли отдаваться лишь в редкие часы. Чаще встречались вот так по службе.
— Разрешите идти? — спросил Петров.
— Да, можете возвращаться в комендатуру. Отдыхайте. Ведь вы с ночного дежурства…
Вышпольский был высокий, широкоплечий с довольно приятным открытым лицом, лет двадцати пяти — двадцати семи. На нем — потертый коричневый костюм, темная, неопределенного цвета рубашка, поношенные желтые полуботинки.
— Садитесь. Мне доложили, что вы хотите сделать какое-то заявление, — сказал Фомин.
— Точно так, пан капитан! — поднявшись со стула, по-военному вытянулся Вышпольский.
— Вставать не нужно, садитесь, — перешел на немецкий Фомин. — Прежде, чем сделать заявление, расскажите, пожалуйста, о себе. Кто вы? Откуда? Что привело вас к нам?