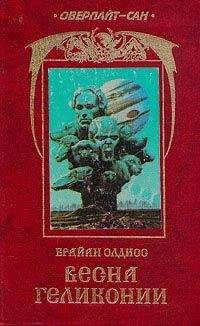Иван Дорба - Под опущенным забралом
Шелленберг сделал нетерпеливый жест. Он не был силен в философии и не любил абстрактных рассуждений, но терпеливо ждал, все еще надеясь, что Байдалаков сам закончит затянувшееся вступление.
— Справедливая социальная жизнь означает счастье для живого индивидуума! Общество и государство потому существуют для него, а не наоборот, — продолжал Байдалаков, понимая, что его вот-вот прервут, и спеша закончить свою мысль. — Каждое звено в шествии поколений имеет право на частицу своего счастья, своей правды. Марксизм отказался сделать элементом социального строительства живого свободного человека с хорошим и дурным, игнорируя хорошее и только подавляя дурное. Поэтому мы предвидим его крушение. Идеал борьбы, ненависти и насилия, государственного деспотического сверхкапитализма и отрицания ценности личности и силы духовного начала неминуемо приведет к гибели…
— Довольно… Большевиков уничтожим мы! А ваш русский народ всегда был под властью тиранов. Я человек прямой, и я, как наш фюрер, — Шелленберг оглянулся на написанный маслом портрет Гитлера, изображенного во весь рост, с выброшенной вперед рукой, — говорю правду в лицо, вархейт ин гезихт заген, славяне — рабы, недаром мы называем их «славен», а рабов — «склавен»! Наш фюрер сказал, что славяне — народ неполноценный…
— Русский народ дал великих писателей, музыкантов, художников, ученых, государственных деятелей, создал величайшую империю, — заторопился Байдалаков.
— Ну, ну! Если копнуть, то все ваши великие писатели, государственные деятели окажутся не славянами.
— А Толстой, Достоевский! — беспокойно мотал головой Байдалаков.
Байдалаков смолк. Растерянно кивал, перебирая губами и глотал слюну.
— Мы отвлеклись на пустяки, — прервал Байдалакова Шелленберг. — Я пригласил вас, господа, говорить о деле. Мы знаем, что вы ненавидите большевиков. Вы утверждаете, что идеи вашего «солидаризма» находят отклик в сердцах русских людей. Претворим это в жизнь! У вас будут неограниченные возможности… Мы вам предоставим вести пропаганду среди миллионов русских военнопленных. Вы сами станете отбирать лучших в нашу школу, чтобы потом переправлять их за линию фронта. Каким количеством агентов вы располагаете на Востоке?
— Война, господин штандартенфюрер, оборвала все наши связи. До войны успешно работала наша группа на территории Бессарабии и Буковины. Там действовали наши типография и радиостанция. Мы полагаем, что они ушли вместе с отступающими войсками Красной армии…
— Не отступающими, а бегущими, господин Байдалакофф. Бегущими!
— Да, конечно. У нас есть люди в Витебске, в Курске…
— Это малоинтересно, нужны Петербург, Москва, сами понимаете. Как у вас со столицами?
— Я затрудняюсь… Закрытым отделом ведает Околов.
— Околов? — Шелленберг кинул взгляд на лежащие перед ним бумаги. — Он был связан с двуйкой и, кажется, с японцами?
— Польша являлась нашим плацдармом. А с генералом Кавебе вы, наверно, знакомы.
— Знаком… В тридцать восьмом году он был военным атташе у нас в Берлине. Потом принял руководство по работе против СССР. Каковы кадры вашего союза?
— Около трех тысяч квалифицированных, прошедших идеологическую подготовку, надежных!…
— Не так уж много. РОВС насчитывает их около трехсот тысяч.
— Мы не гонялись за количеством, это своего рода ауфбау, надстройка. В Мюнхене их было еще меньше.
— То были немцы!
— Тем немцам помогали русские!
«Он ведет себя с кичливым немцем неплохо, — отметил Вергун. — Только врет. Никогда у нас не было трех тысяч, и мы всегда гонялись за количеством».
— Предлагаю всех ваших членов пригласить приехать сюда, в Берлин. Работа найдется для всех! Таково распоряжение господина министра пропаганды Геббельса и господина министра восточных областей Розенберга. Мы ведем с вами неофициальную беседу, легализовать ваш союз невыгодно ни для нас, ни для вас. Мы вас знаем еще недостаточно. Это помешает и вам в работе с военнопленными. Господин гауптштурмфюрер, — обратился он к Ванеку, — пусть дадут разрешение на въезд в Берлин всем, кого пригласит Байдалакофф. — Шелленберг улыбнулся и встал, показывая, что аудиенция закончена. Поклонился. Все тоже поклонились и направились по ковровой дорожке к далекой двери.
— Эйн момент, господин Байдалакофф! — остановил их уже усевшийся в кресло начальник VI отдела СД. — Разрешите дать вам добрый совет: не называйте свой союз так длинно — НТСНП. Назовите Националише абейт унион или лучше Фольксверктатиге бунд! — И он помахал им рукой.
«Нас заново окрестили, — с горечью подумал Вергун, — будем плясать под немецкую дудку».
3
Со всех концов Европы потянулись по приказу исполбюро НТСНП в Берлин на призыв своего вождя руководящие члены союза из Югославии, Румынии, Польши, Франции, Болгарии, Чехословакии, Албании, Бельгии, Голландии. Всего около двухсот человек. Вместо трех тысяч… «Массы» не спешили в Германию, понимая, что советские люди упорно сопротивляются фашизму, и в Белоруссии, и на Смоленщине, и на Украине встретят их неласково. А в Берлине их ждет жесткая немецкая дисциплина.
* * *
Приехавшие по заданию Хованского в конце сентября в Берлин Граков и Денисенко сразу же явились на квартиру к председателю германского отдела Субботину. На звонок им открыла его жена, у нее был испуганный вид.
— Сережа! Тебя тут спрашивают! — крикнула она ему из прихожей.
На пороге соседней комнаты появился Субботин, он был в полувоенной одежде, подпоясан ремнем. Уставился на гостей. Следом за ним в прихожую из гостиной, вскинув голову и выпятив грудь, вышел Байдалаков в штатском костюме и белоснежной рубашке, с бабочкой на шее.
— Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Алексей! Как доехали?
Граков заметил, что хозяева расстроены. Будто незадолго до их прихода спорили или ссорились.
— Знакомьтесь, Сергей Александрович, это белградцы! Орлы!
— Орлы не знают еще немцев, Виктор Михайлович! — пожимая руки прибывшим, запальчиво огрызнулся Субботин.
— Не сумели себя поставить, мой дорогой, я…
— Вы думаете, что исполнительному бюро удастся сохранить позицию «третьей силы»? Ошибаетесь. Энтээсовцев заставят сотрудничать и с немецкой полицией, и с СД, и с абвером, и с гестапо, и, конечно, многие из нас вступят в армию рейха! Я живу в Берлине уже двадцать лет и знаю, что такое фашизм! Поэтому не желаю больше здесь оставаться. Не имею права перед женой, ребенком и собственной совестью, наконец! — возмущался Субботин.
— Тех, кто станет без нашего ведома сотрудничать с немецкими разведками, мы будем исключать из союза! — рявкнул Байдалаков, но в его голосе зазвучала фальшь. — Вы хотите уехать из Берлина… Незаменимых людей нет! Пожалуйста! Исполбюро утвердит на ваше место кандидатуру Александра Гракова! Вы согласны, Александр Павлович, принять германский отдел союза на себя?
Граков в знак готовности поклонился:
— Благодарю за честь. Желательно изредка отлучаться в Белград…
— И прекрасно! Поводы для поездок в Югославию будут. Где вы, Александр Павлович, остановились?
— Еще нигде, фирма, полагаю, обеспечит меня жильем!
— Господин Субботин оставляет квартиру мне, вы с Алексеем поселитесь в двух комнатах, что окнами выходят на улицу, а я со своим новым секретарем займу три комнаты с окнами во двор.
— А где же Воропанов? — спросил молчавший до сих пор Алексей Денисенко, шагнув вслед за Байдалаковым в распахнутую дверь, которая вела из большого холла в просторный кабинет.
Байдалаков оглянулся, пристально посмотрел на Денисенко:
— Сбежал… Да, да, сбежал… И куда, не знаю… И об этом ни гугу! Что о нас подумают немцы?! У нас нет дисциплины! Мы не умеем хранить секреты! — и перевел оценивающий взгляд на Гракова.
Красивый и статный, лет тридцати, в штатском костюме, но с военной выправкой, он выглядел весьма мужественным, энергичным.
— Ты посмотри, Алексей, какая здесь рыжая красотища! — И Граков указал Денисенко широким жестом на окна. — Золотая осень! А в Белграде она еще не чувствуется.
— Нравится? — Байдалаков обрадованно потрепал Гракова по плечу. — У нас всех высокая миссия! Мы добьемся соблюдения дисциплины! Установим железный порядок! Нельзя больше терпеть распущенность! Немцы послужат нам образцом…
Субботин кивнул и нахмурился.
— Я распоряжусь подать кофе, — произнес он и поспешно вышел.
— Надо учиться узнавать человека, — продолжал Байдалаков, — как завязан галстук, каков цвет его костюма, какова стрижка, как он подошел к столу, шевельнул пальцами, сел, куда дел руки, как произнес слово и почему именно это слово! Почему на одном слове дрогнули губы, на другом потемнели глаза, а на третьем сжались кулаки или взлетела рука. Все говорит в человеке, от пальца левой ноги до правого уха, затылка и спины. Иной говорит даже, когда молчит, и, кто знает, когда громче… А дальше идет графология, хиромантия, физиогномика и, наконец, «Криминальная антропология» Чезаре Ломброзо. Вы меня понимаете?