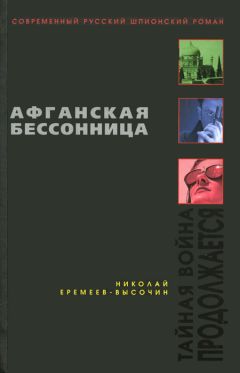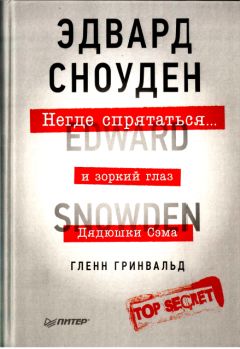Николай Еремеев-Высочин - Афганская бессонница
Пробираясь среди тел — лежащих и стоящих, — мы вышли на улицу. Я осознал вдруг, что что-то изменилось, и сразу ощутил, что именно. Талибы прекратили артобстрел. Странно, это только сейчас пришло мне в голову: а ведь моджахеды не палили в ответ из всех орудий! Когда еще был рамадан и стрелять было нельзя, баловались время от времени, для острастки. А сейчас молчали. Что, это такой план? Или просто не из чего стало стрелять?
Однако конец артподготовки ничего хорошего не обещал. В ней есть смысл, только если сразу за ней начинать атаку. Так что установившаяся тишина таила в себе не успокоение, а тревогу.
Командир Гада остановился поговорить с двумя вооруженными моджахедами. Я узнал одного из них — он снимался у нас в эпизоде рукопашного боя. У него была классная растяжка: он мог наносить удар ногой в голову противника, вытягиваясь практически в шпагат. Теперь его нога была зажата между двумя досками, а брюки стали бурыми от крови. Я поздоровался со всеми за руку, бойцы Дикой дивизии улыбались мне, как старому приятелю.
Гада что-то сказал одному из моджахедов. Тот скинул с плеча свой «Калашников» и протянул мне.
— Это что, мне? — удивился я. — Не надо! Зачем мне оружие?
Но Гада настаивал, да и его солдат отдавал мне свой автомат без малейшего неудовольствия.
— Нет-нет, ребята! — сказал я. — Я — журналист. Журналист! Ти-Ви! Меня оружие не спасет, скорее погубит.
Я решительно отпихнул автомат.
— Спасибо, конечно! Ташакор!
— Лёт фан! Лёт фан! — засмеялись басмачи. И даже раненый улыбнулся сквозь гримасу боли.
Командир Гада настоял, чтобы проводить меня до моего нового убежища. На лице его было написано облегчение. Бедняга! Он решил, раз изумруд взорвался, то его сын не только не получит денег, но и был снова брошен в тюрьму. Я счел полезным укрепить его в уверенности, что уговор остается в силе.
— Замарод беханоман — мехтуб. То есть, что изумруд накрылся — это судьба такая. А песар твой, то есть сын…
Как сказать, на свободе, я не знал, и поэтому изобразил, как ему сняли наручники.
— Азади, — подсказал Гада.
Азади — свобода, я слышал это слово!
— Песар азади — фарда, фарда, фарда, фарда!
А как еще выразить идею будущего? Оно ведь состоит из бесконечной череды завтра! Хотя я сомневался, что, учитывая его способ зарабатывать на жизнь, у сына Гады эта череда будет долгой.
Командир Гада покивал: он ухватил мою мысль. Взгляд его был мечтательным — похоже, будущее своего сына он воспринимал по-другому.
— Пайса? — продолжал я свою мысль. — Командир Гада, — я указал на него пальцем, — хуб, хорошо! Я, — я ткнул себя в грудь, — тоже хуб! Пайса фарда!
Гада опять покивал: он мне верил. Да и лицо его как-то расправилось, и его главным отличительным признаком снова стали редкие корешки зубов в темном рту.
Мы дошли до мечети. Окна и в самом храме, и в домике, где жил мулла, были темные. Я собирался попрощаться на улице, но Гада вошел со мной во двор. Он довел меня до двери и открыл ее — он хотел убедиться, что я смогу вернуться в свое убежище.
Я пожал Гаде руку, но он придержал ее. Он залез себе под бурнус, вытащил оттуда пистолет и протянул его мне на ладони. Это был хорошо мне знакомый «Макаров» — я часто стреляю из такого, когда прохожу переподготовку в Москве.
Я вздохнул. Конечно, если оружие находят у человека гражданского, или который выдает себя за такового, тем более журналиста, оно чаще может его погубить, чем спасти. Но ведь, во-первых, я человек военный — да-да, кстати, подполковник! — и стреляю из этой штуковины очень неплохо. А во-вторых, я здесь совсем не для съемки репортажей и с пакистанским офицером в любом случае хотел бы еще повстречаться. В-третьих, мне надо найти своих ребят. В-четвертых, нам всем придется как-то отсюда выбираться. Короче…
— Спасибо, друг, ташакор! — сказал я, забирая пистолет. — Сочтемся!
Я тогда сказал это просто так, обычная присказка к благодарности. Но из таких мелочей жизнь и составляет в итоге важные события.
Ночь шестая
1. Арест. Тюрьма
Я раскрыл глаза в своем бомбоубежище под мечетью. Вокруг было темно, но я понял, что мне на несколько часов удалось заснуть. А сейчас я снова лежал и вспоминал события прошедшего дня. Только сон, хотя и короткий, все же сделал свое дело: я уже воспринимал их как вчерашние. Однако чувствовал я себя настолько плохо, что воспоминания, хотя и выстраивались хронологически, обладали не большей реальностью, чем сон. Складный, похожий на правду, но сон.
Итак, что было вчера? А вчера был — я поднапряг мозги — шестой день нашего пребывания в Талукане.
Мне в прошлую ночь, видимо, все-таки удалось заснуть на пару часов. Меня пытался вырвать из сна призыв на утреннюю молитву, но я лишь всплыл на поверхность, высунул сонно один глаз и снова погрузился в густую липкую хлябь.
Но вскоре кто-то потряс меня за плечо. Я с трудом расклеил веки — это был мулла.
— Салям алейкум! — склонил голову он. Он был очень церемонным. — Чой!
— А, хорошо, спасибо! Ташакор! Сейчас! — сказал я и опять пошел ко дну.
Когда я пришел в себя, было уже около десяти. Пришел в себя, это сильно сказано! Веки у меня были налиты свинцом, горло забито металлической стружкой, уши залиты воском, и при каждом вдохе и выходе трубы мои клокотали, как порванный кузнечный мех.
Я применил испытанное средство. Достал по две таблетки из подаренных Фаруком упаковок (запас лекарств быстро таял), забросил их в пересохший рот и смыл двумя мужскими глотками текилы.
Я прислушался, насколько мой слуховой аппарат к этому еще был пригоден. Похоже, в городе было тихо. В любом случае, артобстрел закончился. Я побрел в туалет. Умывальник был предусмотрительно наполнен. Я почистил зубы и даже, раздевшись до пояса, поплескал на себя холодной водой. Не столько для гигиены тела, сколько для поддержания духа.
Хлопнула дверь, и я выглянул наружу. По подвалу шел мулла. Увидев меня, он махнул рукой:
— Чой! Чой!
В тот момент ничто не доставило бы мне большего удовольствия. Прекрасные люди на мусульманском Востоке — я сейчас очень серьезно говорю!
У меня был такой озноб, что я надел куртку. И был прав — мы пошли через двор в построенный по соседству домик муллы. Что, в сущности, логично — мечеть все же не караван-сарай!
В домике были две светлые, чистые и почти пустые комнаты. Женская половина явно отсутствовала. В первой комнате горел очаг, дым из которого уходил вверх — там было что-то типа каминной трубы. В очаге на чугунной решетке пыхтел из носика и пузырился из-под крышки большой почерневший чайник.
За накрытым к чаю столом — лепешки, плошки с вареньем, колотый сахар на блюдечке, — сидел еще один мужчина. Ему тоже было под пятьдесят — борода в белых перьях седины, большие очки со сломанной дужкой, перехваченной белой резинкой, типа из трусов, выступающие вперед кроличьи зубы. Увидев меня, он встал и с достоинством поприветствовал, прижав руку к груди. Рукопожатие, видимо, казалось ему ритуалом светским, более низкого порядка.
Мулла поставил передо мной индивидуальный, как принято, чайник, в который он только что залил кипятка, и сделал приглашающий жест, показав на стол.
— Вы говорите по-французски? — спросил вдруг его гость.
Какое счастье! Мне возвращали дар речи!
Я жадно вцепился в нового собеседника. Мухаммад Джума оказался имамом кафедральной мечети Талукана. Там, где мы сейчас сидели, это была Южная мечеть, а у рынка была его, главная, кафедральная. Он служил там, а жил здесь, у своего коллеги и друга. Мухаммад Джума в свое время учился в медресе в Каире. Там у него было много друзей из Магриба, с которыми он и выучил язык. Конечно, он уже давно не говорил, но его французский был раз в тысячу лучше моего дари.
Чай, наверное, уже заварился. Я сделал несколько глотков, и — о чудо! — у меня разложило уши. Я прислушался. В городе шел ленивый бой. Время от времени слышались одиночные выстрелы и короткие очереди. Где-то далеко разорвалась граната. Но сюда, под сень мечети, внешний мир не имел хода.
— Вы знаете, — заговорил Мухаммад Джума тоном человека, которому было дозволено донести до невежд самые сакральные из вечных истин, — если человек нехорош, то это не значит, что он плох!
Я замолчал, переваривая услышанное. Смысл его оставался для меня темным, но я надеялся, раскроется, если я буду знать об этом чуть больше.
— А почему же тогда он нехорош?
Глаза Мухаммада Джума за толстыми стеклами очков вспыхнули ликующим огнем.
— А потому, что существует сила, которая толкает его делать зло!
Он прямо рукой показал, с какой страшной физической силой та, оккультная, подчиняет себе всех и вся.
— И как же называется эта сила?
Имам закатил глаза и сказал на едином выдохе: