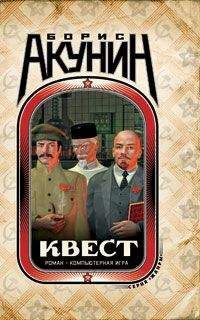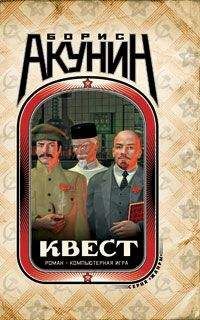Борис Акунин - Квест-2. Игра начинается
Были у Петра Ивановича метафоры и поприятней, которыми он тоже охотно делился. Ученый-большевик (понимай шире — вообще Большевик) подобен садовнику, который только-только приступил к благоустройству крайне запущенного сада. Сначала предстоит выполнить тяжелую, малоприятную работу: выкорчевать мертвые корни, прополоть сорняки, убрать сухостой и валежник, обработать почву инсектицидами. Аллейки-цветочки и прочие икебаны будут потом.
Заговорив о каком-то Мафусаиле, «осколке старого мира», профессор не удержался, оседлал своего любимого конька — антропоселекцию.
— Эх, голубчик вы мой, отлично понимаю железную логику ваших «полу-умных гуманистов». — Палец Петра Ивановича меланхолично провел по изображению утраченного Эдемского сада. — Разумеется, ошметки царского режима подлежат полному искоренению. А все же мне как генетику их жаль. Общество было эксплуататорским, несправедливым, всё верно. Но за века в нем сформировалась своя элита, продукт естественного евгенического развития. Посмотрите, кто нас теперь окружает! Не лица, а рожи. Жаль, безумно жаль бесценного генофонда, истребленного революцией.
— А вы не жалейте, — отрезал Ян Христофорович. — В природе и в истории случайностей не бывает. Раз ваша элита дала себя уничтожить, значит, она была слаба и нежизнеспособна. Дайте срок. С вашей помощью мы вырастим новую элиту — нашу советскую интеллигенцию. Вырастим научным методом, то есть быстро, эффективно и обильно. Пройдет двадцать, максимум сорок лет, сменится одно-два поколения…
— И на просторах Родины будут проживать сплошные швейцарцы, — подхватил профессор, смеясь. — Разумные, ответственные и дисциплинированные, как боги.
Дело в том, что умнейший Ян Христофорович по происхождению был именно швейцарцем — из старой, ленинской гвардии. Громов познакомился с ним в Цюрихе, еще до мировой войны.
Тоже посмеявшись, Картусов откашлялся. Это ритуальное поперхивание означало, что грядет главное — то самое, ради чего начальник контрразведки позвонил. Он знал, что после рабочего дня (вернее, вечера), проведенного в лаборатории, в полном одиночестве, профессору нужно дать немного поболтать, а потом уже можно говорить с ним о важном.
Директор Института пролетарской ингениологии вздохнул.
— Слышу по кашлю, что хотите сообщить мне какую-то очередную гадость. Ну, как теперь говорят, валяйте. Я весь внимание.
— Профессор, вам угрожает опасность. Серьезная.
— Опять «пруссаки»? — застонал Громов. — Mundus idioticus! Неужели вы не можете с ними справиться! Это очень мешает работе!
— Нет, не «пруссаки». В Москву прибыла американская диверсионная группа. Их мишень — Институт, а еще вернее — лично вы.
— Американская? Польщен, польщен, — пробормотал Петр Иванович. — А я говорил вам, не надо меня рассекречивать!
— Это ничего бы не изменило. Ваши исследования и наша деятельность по добыванию Материала уже стали секретом Полишинеля.
— Хорошо-хорошо. Ловите своих американцев. Это ваша забота!
— Уже.
— Что «уже»?
Картусов виновато покряхтел.
— Уже поймали… Но мои ребята совершили оплошность. И я тоже отличился, недооценил противника. В общем, диверсантам удалось бежать. Это чрезвычайно опасные люди. Я вынужден просить вас дать согласие на ужесточение режима охраны вашей дачи…
— Нет, нет и тысячу раз нет! — визгливо закричал директор, стукнув кулаком по столу. — Это и так уже не дача, а какой-то Порт-Артур! Невозможно нормально отдыхать! Из-за каждого куста торчит какая-нибудь морда!
— Успокойтесь, успокойтесь! Разволнуетесь — не сможете уснуть. Я что-нибудь придумаю. Например, удвою или утрою «нулевку». Вы и не заметите.
— Что такое «нулевка»? — подозрительно сощурился Громов.
Чекист объяснил, что «нулевка» — это охрана внешнего периметра.
— Ах да, вы уже объясняли. Столько, знаете ли, всяких условных обозначений. Не упомнишь.
Таковы были правила телефонного общения. Нарушать их не мог даже вольнолюбивый Петр Иванович. Трудно было вообразить, что сверхнадежную спецлинию осмелится кто-то прослушивать, но если б и посмел, то мало что понял бы из закодированной беседы. Нечего и говорить, что под «пруссаками» подразумевались отнюдь не германцы, «Мафусаил» был не библейским старцем, а «Рамзес» не фараоном. Во всяком случае, не египетским.
Вскоре прозвучало еще одно кодовое слово, причем не в первый раз.
— Доставили отчет из Заповедника? — спросил Картусов. — Ведь сегодня, то есть уже вчера, было пятое.
— Доставили, во втором часу ночи.
— Опять бред? Такое ощущение, что он над нами издевается!
Петр Иванович наматывал телефонный провод на палец.
— Я, голубчик, вначале тоже так думал. Но в этом состоянии лукавить невозможно. Там какая-то система. И к ней ключи.
— То есть? Какие ключи?
— От дверей.
— Петр Иванович, вы можете без поэтических метафор?
— А это не метафора. Я предполагаю, что там намеренно установленные блокаторы. Вроде запертых дверей. И к каждой ключи. Мы их постепенно подбираем, один за другим. Загвоздка в том, что мы не знаем, как ими пользоваться… Принцип непонятен, вот что.
Вместо ответа Ян Христофорович, даром что ответственный работник, по-мальчишечьи присвистнул.
— Так-так-так… Шевелите мозгами, товарищ профессор. Думайте. Вы с ним, можно сказать, сроднились. Никто кроме вас его шарад не разгадает. А почему вы проводите сеанс всего раз в трое суток?
— Чаще нельзя. Может наступить привыкание. А то и отторжение. Не забывайте, это организм, так сказать, особенной пропитки.
— Вам, конечно, виднее. И что в отчете?
Профессор взял со стола портфель, попробовал расстегнуть замок. Одной рукой было неудобно.
— Еще не распечатывал. Говорю же, доставили перед самым моим отъездом. Сейчас посмотрю.
— Не буду мешать. Отдыхайте, а у меня тут еще полно дел…
Попрощавшись с сердечным другом Яном Христофоровичем, директор не замолчал, а продолжал разговаривать с самим собой — эта привычка возникла от еженощной уединенной работы в наглухо закупоренной лаборатории. Ассистентов Петр Иванович не держал, они бы ему только мешали.
Из портфеля был извлечен запечатанный сургучом пакет со штампом «Строго секретно»; из пакета — листок бумаги.
— Нуте-с, поглядим…
На листке было всего несколько строк, под ними число, время, подпись. Одна из строчек напечатана заглавными буквами и подчеркнута красным карандашом.
Проведя по ней пальцем, Громов взволнованно заерошил эспаньолку.
— Разумовская? Что-то новенькое! В каком смысле Разумовская?
Он задрал голову, прищурился на абажур. Запел: «Тореадор, смелее в бой! Тореадор, тореадор, траам-пара-папам-пара-папам…»
Потянул «Сад земных наслаждений» за раму. Оказалось, что картина непростая, с секретом. Пискнув потайными петлями, она отделилась от стены на манер ставни. За ней открылась стальная дверца с кнопками. Петр Иванович быстро натыкал пальцами комбинацию, известную ему одному, и сейф открылся.
Ничего особенно интересного внутри не было, лишь тощая канцелярская папка с надписью «Ответы». Ниже помечено: «Начата 11 апреля 1930 г.».
В папке сиротливо лежала одна-единственная страничка, на ней всего восемь строчек, аккуратно выведенных лично Петром Ивановичем.
Сейчас он присовокупил к ним девятую, скопировав из отчета то, что было подчеркнуто красным.
— Чем дальше в лес, тем больше дров, — сказал профессор, завязывая тесемочки.
Листок, вынутый из сургучного пакета, он сжег в пепельнице. Папку положил обратно в сейф, однако запереть не успел. За спиной Петра Ивановича ни с того ни с сего скрипнула дверь.
Директор быстро захлопнул сейф, прикрыл его картиной, с сердитым возгласом обернулся:
— Какого черта! Я строго-настро…
И заморгал.
Из темной дверной щели высовывалась рука, в ней поблескивал «кольт».
Дверь открылась шире, в кабинет бесшумно шагнул какой-то человек.
Свет лампы пустил блик от бритой макушки. Петр Иванович непроизвольно вскрикнул:
— Вы?!
Но в следующее мгновение человек вышел из полумрака и оказался каким-то совершенно незнакомым субъектом. Статный молодец довольно приятной наружности с упрямым подбородком и чуть вздернутым носом. Взгляд прямой, по сторонам не шарит. Очень кстати. Петр Иванович в молодости увлекался передовыми методами психотерапии и очень недурно владел техникой гипноза.
Как бы в порыве нервозности (совершенно естественной, когда в тебя целятся из такого большого револьвера), он сдернул с носа пенсне. Стеклышки ослабляли магнетическую силу взгляда.
Бритый, умничка, подошел ближе.
Теперь Петр Иванович увидел, что глаза у него черные. Взгляд внимательный, серьезный, сопротивляющийся проникновению. Ну-ка, что там у нас на уме?