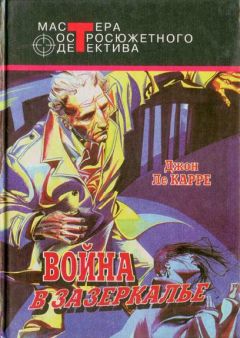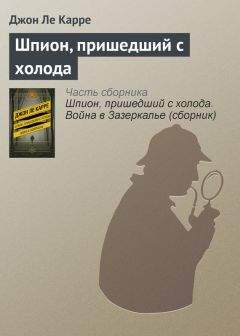Джон ле Карре - Шпион, пришедший с холода. Война в Зазеркалье (сборник)
– Быть может, Карл как раз впал в депрессию и нуждался в этом?
– Ничего подобного. Совсем наоборот. К тому времени его уже избаловали донельзя. Ему слишком много платили, его обожали, он пользовался безграничным доверием. Отчасти в том была моя вина, отчасти – Лондона. Не подпорти мы ему характер, он, возможно, не растрепал бы все о нашей сети своей любовнице.
– Эльвире?
– Да.
Они какое-то время шли молча, а потом Фидлер вдруг вышел из задумчивости с неожиданным признанием:
– А вы начинаете мне нравиться. Однако есть один момент, который меня удивляет. Странно, потому что меня это нисколько не беспокоило до личного знакомства с вами.
– Что именно?
– Почему вы решились на измену? Почему стали перебежчиком?
Лимас попытался что-то сказать, но Фидлер тут же рассмеялся:
– Не очень тактично с моей стороны задавать подобные вопросы, понимаю.
Всю неделю они провели в походах по холмам. Вечерами возвращались в хижину, ели скверно приготовленную пищу, запивая ее безвкусным белым вином, а потом подолгу сидели перед камином со стаканами «штайнхегера»[18]. Идея растопить камин пришла в голову Фидлеру. Поначалу они им не пользовались, но однажды Лимас услышал, как он попросил одного из охранников принести в дом дрова. И Лимасу стало нравиться так проводить вечера после целого дня на свежем воздухе: тепло огня и крепкий грубоватый алкоголь. Он сам становился разговорчив, рассказывая о своей службе без наводящих вопросов. Лимас догадывался, что все это записывается на скрытый магнитофон, но решил не придавать этому значения.
С каждым прошедшим днем Лимас чувствовал, как в его компаньоне нарастает внутреннее напряжение. Однажды они поехали прокатиться на «де-ка-вэ» – был уже поздний вечер – и остановились у будки телефона-автомата. Фидлер оставил его ждать в машине, даже не вынув ключи из замка зажигания, а сам долго с кем-то общался по телефону. Когда он вернулся, Лимас спросил:
– Почему нельзя было позвонить из дома?
Фидлер покачал головой.
– Нам нужно соблюдать осторожность, – ответил он. – Не только мне, но и вам тоже.
– Почему? Что происходит?
– Это касается тех денег, которые вы разместили в Копенгагене. Мы еще писали в банк, помните?
– Конечно, помню.
Фидлер больше ничего не сказал и молча вел машину между холмами. Потом они остановились. Внизу, полускрытое призрачными ветвями густо растущих сосен, находилось место соединения двух обширных долин. Крутые и тоже покрытые сосняком склоны холмов по обе стороны постепенно теряли цвет в сгущавшемся мраке, становились черными и как будто лишенными жизни.
– Что бы ни случилось, – произнес наконец Фидлер, – ни о чем не беспокойтесь. Все будет хорошо, понимаете? – Он явно старался придать своим словам особый смысл, его тонкая рука легла поверх руки Лимаса. – Какое-то время вам придется самому позаботиться о себе, но продлится это недолго, понимаете? – снова спросил он.
– Нет. И поскольку вы мне ничего не говорите, придется подождать и действовать по обстановке. Не переживайте за мою шкуру, Фидлер. – Он попытался освободить руку, но тот держал ее крепко. Между тем Лимас терпеть не мог чужих прикосновений.
– Вы знаете Мундта? – спросил Фидлер. – Вам многое о нем известно?
– Мы уже обсуждали эту тему.
– Верно, – согласился Фидлер, – мы о нем говорили. Он сначала стреляет, а потом задает вопросы. Принцип упреждающего удара. Странно придерживаться его в профессии, где получить ответы на вопросы всегда считалось гораздо важнее самой своевременной стрельбы.
Лимас уже понимал, к чему клонит Фидлер.
– Но это вовсе не странно для того, кто боится ответов на вопросы.
Лимас выжидал. Спустя несколько секунд Фидлер продолжил:
– Он никогда прежде не проводил допросов сам. Неизменно предоставлял это мне. Говорил обычно: «Допрашивай их сам, Йенс. Никто не умеет делать этого лучше. Я их буду отлавливать, а ты заставлять „петь“. Еще его любимой присказкой были слова о том, что контрразведчики похожи на художников: и к тем и к другим надо приставить человека с молотком, чтобы он бил их, как только они перестанут работать. Иначе они забывают, к чему им следует стремиться. „Я буду таким молотобойцем для тебя“.» Поначалу это воспринималось как шутка, но потом все стало очень серьезно, когда он начал убивать, убивать без всякого разбора еще до того, как они успевали «запеть». Я разговаривал с ним, я просил его: «Почему было не арестовать их? Почему бы мне не подержать их пару месяцев у себя? Какая нам польза от мертвых?» Но он лишь качал головой и ссылался на чью-то цитату, что сорняки следует выпалывать до того, как они пустят корни и расцветут. И у меня было ощущение, что он придумал такой ответ задолго до того, как я впервые задал ему свой вопрос. Но он хороший оперативник, просто отличный. В Абтайлунге он творил чудеса – вам это тоже известно. И у него полно теорий по этому поводу; мы часто разговаривали с ним по ночам. За чашкой кофе – он не пьет ничего, кроме кофе, – он разглагольствовал передо мной. Он считал, что немцы слишком склонны копаться в себе, чересчур интроспективны, чтобы из них получались хорошие агенты, и это особенно проявляется в контрразведке. Немецкие контрразведчики, говорил он, уподобляются ленивым волкам, которые без конца готовы грызть одну и ту же кость. Надо отбирать ее у них и гнать за новой добычей. И я мог в чем-то с ним согласиться, понимал, что он имеет в виду. Но потом он зашел слишком далеко. Зачем, например, он убил Фирека? Почему отнял его у меня? Ведь Фирек как раз и был той самой свежей добычей. Мы еще не успели даже мясо снять с кости. Так зачем же он ликвидировал его? Зачем, Лимас, как вы думаете? – Рука Фидлера еще крепче вцепилась в ладонь Лимаса.
В машине воцарилась почти полная тьма, но Лимас не мог не ощущать пугающей силы эмоций своего собеседника.
– Я думал об этом день и ночь. После того как Фирека расстреляли, пытался понять причину. И поначалу сам испугался своих мыслей. Уж слишком невероятным казалось объяснение. Я обвинял себя в том, что завидую Мундту, что от работы у меня ум за разум заходит и я начинаю видеть предателя за каждым деревом – что порой случается с людьми нашей профессии. Но я уже ничего не мог поделать с этими мыслями, Лимас. Такое происходило с Мундтом и прежде. Он боялся – опасался, что однажды к нам в руки попадет тот, кто знает слишком много.
– Что вы несете? Вы не в своем уме, – сказал Лимас, и в его голосе тоже отчетливо прозвучал страх.
– Но поймите, все сходится. Мундт легко бежал из Англии, вы сами удивлялись этому. И что вам сказал Гиллам? Он посчитал, что англичане и не хотели его задерживать. Почему? А я вам назову причину. Потому, что он уже работал на них. Они его завербовали. Он попался на тех убийствах, и ему назначили цену свободы – измена плюс деньги, которые ему заплатили.
– Говорю же, вы из ума выжили! – зашипел на него Лимас. – Он убьет вас, если узнает, какие фантазии вы строите на его счет. Ваши подозрения гроша ломаного не стоят, Фидлер. Заткнитесь, и поехали домой. – Он почувствовал, как хватка на его руке ослабела.
– Вы глубоко заблуждаетесь. И самое занятное, что вы сами снабдили меня доказательствами. Именно вы, Лимас. Вот почему мы сейчас просто необходимы друг другу.
– Это не может быть правдой! – выкрикнул Лимас. – Сколько раз мне вам повторять, что они не могли так поступить? Цирк не сумел бы курировать столь важного агента в зоне без моего ведома! Чисто организационно у них не было такой возможности. Вы пытаетесь убедить меня, что Шеф персонально курировал заместителя начальника Абтайлунга через головы сотрудников берлинской резидентуры? Вы ополоумели, Фидлер, вы полностью слетели с катушек! – Внезапно он тихо засмеялся. – Ну конечно! Вы же хотите занять его место, бедняга. Вот это мне понятно, здесь нет ничего необычного. Но только вы явно перегибаете палку в своем жадном стремлении к власти.
Они оба замолчали. Но тишина продлилась всего несколько мгновений.
– Те деньги, – сказал Фидлер. – Депозит в Копенгагене. Банк прислал ответ на ваше письмо. Управляющий крайне обеспокоен, что произошла серьезная ошибка. Потому что деньги со счета снял второй его владелец ровно через неделю после того, как вы их положили. Указанная дата совпадает с теми днями в феврале, когда Мундт нанес краткосрочный визит в Данию. Он отправился туда под чужой фамилией, чтобы встретиться с нашим американским агентом на всемирной конференции ученых. – Фидлер помялся, но потом добавил: – Вероятно, вам нужно отправить в банк еще одно послание и заверить их, что все в полном порядке. Как считаете?
15
Приглашение
Лиз смотрела на письмо, полученное из партийного Центра, и гадала, как такое могло получиться. Она была слегка удивлена. И польщена тоже. Но только почему они прежде не поговорили с ней? Выдвинул ли ее кандидатуру районный комитет компартии или же в Центре сами сделали выбор? Однако, насколько ей было известно, никто в Центре ничего о ней толком не знал. Нет, она, конечно, встречалась иногда с его представителями, даже пожала однажды руку самому секретарю, который приезжал на их региональный съезд, но и все. Возможно, ее запомнил тот мужчина из отдела культурных связей – светловолосый, слегка женоподобный, он был так с ней обходителен, – по фамилии Эйш. Он проявил к ней живой интерес, а потом, вероятно, вспомнил и назвал ее как возможного кандидата, когда возникла идея поездки. Это был странный человек. Да уж. Пригласил после заседания съезда в «Блэк-энд-уайт» на чашку кофе и выспрашивал ее почему-то главным образом о молодых людях. При этом он сам не делал никаких амурных пассов – ничего подобного. Она, честно говоря, даже подумала, что он голубой. Зато он задал множество вопросов о ней самой. Как давно она стала членом партии, не скучала ли по дому, живя вдалеке от родителей? Было ли у нее множество ухажеров или существовал тот единственный, которому она подарила свое сердце? На нее он не произвел особого впечатления, но разговор с ним получился поучительным: он рассказывал о государстве трудящихся, Германской Демократической Республике, о концепции пролетарского поэта и о разном другом. Он много знал о странах Восточной Европы. По всей видимости, не раз бывал там. Ей еще подумалось, что он – школьный учитель, поскольку говорил тоном наставника и демонстрировал привычки, свойственные педагогам. Потом, когда начали сбор средств в «Фонд борьбы», Эйш пожертвовал целый фунт, чем немало поразил ее. Да, это он, теперь Лиз была уверена: именно Эйш вспомнил о ней. Он рекомендовал ее кому-то в лондонском партийном комитете, а Лондон передал ее имя в Центр – скорее всего произошло нечто подобное. Все равно, конечно, необычный способ принимать подобные решения, но в партии всегда любили конспирацию – она считала, что так всегда происходит в революционных партиях. Лиз не слишком нравилась атмосфера секретности, потому что в ней ей мерещилось что-то не до конца честное. Но с этим приходилось мириться как с необходимостью, и, бог свидетель, она знала многих, кто даже получал от этого удовольствие.