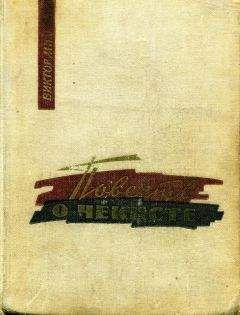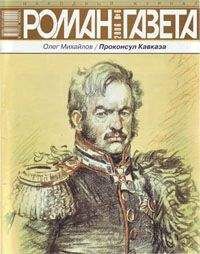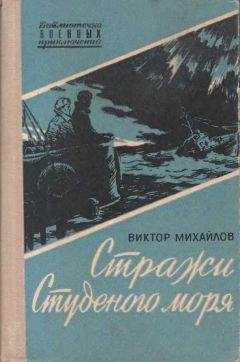Виктор Михайлов - Под чужим именем
Вынув из стола коробку папирос, подполковник дал ему закурить и, встав с кресла, через плечо Каширина стал просматривать журнал.
Прошло несколько тяжелых и томительных минут, Рубцов докурил папиросу и сказал:
— Я буду говорить. Что вас интересует?
Подполковник не торопясь сел в кресло, еще раз перелистал паспорт, сложил его, внимательно разглядывая Рубцова, и сказал:
— Ваша настоящая биография, как вы попали за границу, кем, когда и где были завербованы, какую и где прошли подготовку, кем и при каких обстоятельствах были переброшены через границу, какое конкретное задание вы получили?
— Я только прошу, если можно, парочку папирос.
— Вот вам папиросы, спички и пепельница. — Подполковник Зубов все это положил перед Рубцовым.
Рубцов закурил, жадно затянулся, закашлялся и, сев в кресло, спросил:
— Можно говорить?
— Говорите, но помните, только правду, — ответил подполковник.
4. ФРЭНК
Он говорил, сильно волнуясь, прикуривая одну папиросу от другой. Его звонкий голос иногда неожиданно срывался. В таких случаях он делал несколько глубоких затяжек, и наступала напряженная пауза.
— Когда я сейчас оглядываюсь назад, юность моя встает предо мною, точно счастливый, но краткий сон. Я был человеком, и у меня была мать и в дни стужи, встав ночью, она заботливо укрывала меня поверх одеяла своим пальто… И девушку я любил, и девушка любила меня. И были друзья, веселые встречи, комсомол… У меня было будущее…
Допрашиваемый помолчал, откашлялся и продолжал:
— Я родился в Барнауле. Отец мой умер, когда мне было четыре года, воспитывала меня мать. Фамилия моя Клюев, зовут меня — Григорий Иванович, вчера мне исполнилось тридцать два года. Кончив десятилетку в Барнауле, я поступил в Московский государственный экономический институт. В сорок первом году, в сентябре, когда положение на фронтах было особенно тяжелым, меня с четвертого курса института призвали в армию. Через шесть месяцев, кончив курсы «Выстрел», я принял роту двадцать седьмого стрелкового полка. До одиннадцатого сентября сорок второго года боевое счастье шло со мной в ногу. Десятого сентября мы вели уличные бои в Новороссийске. Правый берег Цемесской бухты прикрывал нас артогнем. Наше сопротивление ставило под удар всю группу войск противника на Таманском полуострове. Гитлеровцы не считались с потерями, захватили город, а я… я сильно контуженный, в бессознательном состоянии попал в плен и оказался в лагере для военнопленных близ Мюнхена, на окраине Вертархофе. Я долго болел, но больных и физически неполноценных гитлеровцы уничтожали. Преодолевая сильную слабость, я выходил на работу. Работал на пивоваренном заводе истопником. Дважды с товарищами пытался бежать из плена, но… после первого побега я лежал четыре месяца на животе и харкал кровью, после второго… Не стоит об этом говорить.
Опустив голову на руки, он некоторое время сидел молча, затем взял папиросу, закурил и, все более волнуясь, продолжал:
— Десятого мая сорок пятого года мы все военнопленные — русские, французы и англичане, — пьяные от счастья и радости, пришли в Мюнхен. Комендант города, майор Джон Тэрнер приказал рыдать нам сухой паек и предложил вернуться в лагерь, так как для нашей репатриации еще ничего не было готово. После того как мы вернулись в лагерь под Вертархофе, через три дня пришли американцы и поставили вооруженную охрану. Вместо Эрнста Хотцера комендантом лагеря стал Дональд Бэрд, во всем остальном положение не изменилось. Через три месяца отделили всех военнопленных англичан и вывезли из лагеря на грузовиках, еще через месяц — всех французов. Мы требовали репатриации, устраивали митинги протеста, наконец объявили голодовку. Тогда приехал майор Тэрнер и успокоил нас: ведутся переговоры с представителем советских оккупационных войск, нужно терпение. Но как раз терпения у нас и не хватало.
Так в тоске и ожидании прошел сорок пятый год. Новый год не принес ничего нового, только в лагерь все чаще и чаще начали проникать итальянские монахи и англо-американские миссионеры, какие-то непонятные личности с продуктовыми посылками, костюмами, бельем, всякими дарами Ватикана, вроде ладонки с кусочком креста господнего. Эти господа вели вкрадчивые разговоры о том, что репатриация на родину равносильна новому плену и даже тюрьме. Были у нас три человека: Астахов, Гудим и Симченко. Они больше всех добивались репатриации, выступали на митингах, писали гневные протесты и ссорились с комендантом лагеря капитаном Бэрдом. Этих трех человек первыми репатриировали на родину. Когда мы протестовали против отбора для репатриации, комендант лагеря многозначительно сказал: «Они очень стремились домной, посмотрим, как их примут в России!!»
Двадцать восьмого мая сорок шестого года объявили, что нас отправляют в Мюнхен, где мы все будем переданы представителю советских оккупационных войск в Германии. Второго июня нас действительно перевели в Мюнхен и расквартировали в казарме бывшего эсэсовского полка «Зигфрид». Пятнадцатого июня нас выстроили на плацу в ожидании советского представителя. Мы долго ждали его, но… советский представитель не приехал. Эта комедия повторялась несколько раз, разочаровывая людей, убивая в них последнюю надежду. Как-то в конце июня нам роздали огурцы, завернутые в кульки из старых газет. Некоторые из них были свернуты из одного номера советской газеты. На этих обрывках мы прочли: «Решением Коллегии Военного суда Астахов, Гудим и Симченко за добровольную сдачу в плен приговорены к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор приведен в исполнение». Такая новость сильно возбудила весь лагерь — мы знали этих людей, знали, что их плен не был добровольным, и каждый из нас стал опасаться за свою судьбу. Позже я узнал, что Гудим, Астахов и Симченко были провокаторами, а вся история с газетой — ловкий трюк, рассчитанный на нашу доверчивость.
Однажды, когда под палящим зноем горячего баварского солнца мы стояли на плацу в бесплодном ожидании, перед нами появился сам Джон Тэрнер и с ним истощенный, оборванный человек. Через переводчика майор Тэрнер обратился к нам с такой речью: «Сегодня я должен передать вас представителю советских оккупационных войск. На грузовиках вас доставят в Хемниц, но… я представитель страны, где свято чтут демократию и свободу. Поэтому из гуманных соображений прошу вас выслушать вашего соотечественника, который бежал из советской зоны оккупации».
Человек, названный нашим соотечественником, говорил о том, что будто бы неделю тому назад он с группой военнопленных был передан в Нюрнберге советскому представителю и под усиленной охраной русских направлен в Эрланген. По дороге, разговорившись с одним солдатом, он узнал, что всех репатриированных отправляют не по месту жительства, а в концентрационные лагери северной Сибири, где они работают в ужасных условиях на лесоразработках. Когда они прибыли в Хемниц, на каждого из них надели тяжелые наручники и посадили в усиленно охраняемые товарные вагоны. В эту же ночь он и с ним еще несколько человек разобрали в вагоне пол и во время короткой стоянки бежали, а потом с трудом добрались до Нюрнберга. Узнав о том, что в Хемниц отправляется новая большая партия репатриированных, он счел своим долгом нас предупредить. Кто-то из наших рядов крикнул: «Не верьте, товарищи, это провокация!» В моей голове пронеслись события четырех последних лет плена, лагерей, пыток и издевательств, расстрела трех наших товарищей, и я с ужасом подумал о том, что ожидает меня в России. Подошли грузовики, и, когда майор Тэрнер предложил всем тем, кто желает вернуться в Советский Союз, сделать десять шагов вперед, огромное большинство вышло вперед. А я… остался и со мной еще человек семь.
Нас посадили в автобус и быстро увезли. Если до этого рокового дня, пятнадцатого июня, я был насильственно лишен Родины, то теперь, позже я это понял, я сам по своей вине ступил на путь человека, навсегда потерявшего Родину.
Клюев судорожным движением смял в кулаке окурок папиросы и расстегнул узкий ворот рубахи. Выпив залпом стакан воды, он продолжал:
— Нас привезли в южный курортный город Бад-Киссенген. Здесь мы пользовались некоторой свободой и жили в одном из богатых загородных домов фон Тиссена. Нам показывали американские картины, поили вином и даже… ну это не важно. Так мы прожили несколько месяцев. Нас часто посещали американцы, живущие в отеле «Кургауз», беседовали с нами, рассказывая о чудесах американской жизни. В период жизни в Бад-Киссенгене один итальянец, бог знает как попавший в нашу среду, Антонио Конти, настойчиво добивался моей дружбы. Я был одинок и растерян, это нас сблизило. В начале сорок седьмого года конгресс в Вашингтоне одобрил законопроект, разрешающий въезд в Америку значительного числа «перемещенных лиц», «индивидуальных союзников», как их назвал Трумэн. Так в начале сорок седьмого года я оказался в Америке, в штате Мэриленд, недалеко от города Балтимор, на благоустроенной ферме «Денис» в качестве рабочего. По воскресеньям я и мой приятель отправлялись в Балтимор; у Антонио Конти всегда были деньги. Он говорил мне, что богатые родственники, живущие в Ливорно, его регулярно поддерживают. Денежные переводы я видел собственными глазами, но писем Антонио никогда не получал.