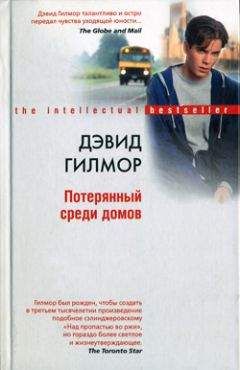Джон Ле Карре - Идеальный шпион
— Одна дама по имени Липси влюблена в моего папу, они поженятся, и у них будут дети, — услужливо сообщил Пим Черри однажды вечером, гуляя с ней по аллее, и был чрезвычайно поражен тем, как серьезно восприняла Черри это известие и как дотошно принялась выспрашивать его о Липси и всех ее достоинствах.
— Я видел ее раз в ванне, она очень красивая, — отвечал Пим.
Когда несколько дней спустя они покидали это место, казалось, Рик прихватил с собой некую толику его величия, как и величия его владелицы — так, по крайней мере, мне видится, когда перед глазами встает картина: Рик, спускающийся по внушительным каменным ступеням с чемоданами из белой телячьей кожи в каждой руке. Рик всегда обожал красивые чемоданы, а уж по части экипировки, которую он взял с собой за город, ни один адмирал, отправляющийся в море, не мог бы с ним сравниться. Сид и мистер Маспоул следом за ним несли зеленый шкафчик.
— Не надо говорить с Черри о Липси, сынок, — поучал Пима Рик. — Пора бы тебе знать, что верхом невежества считается сообщать одной женщине о другой. Пока не усвоишь этого, тебя будут считать невоспитанным, и это ясно как Божий день.
Как я подозреваю, именно Черри помогла Рику увериться в необходимости превратить Пима в джентльмена. Потому что до этого времени врожденная принадлежность его к аристократам сомнению не подвергалась. Но властная Черри использовала свое превосходство, чтобы убедить Рика в том, что подлинный аристократизм по-английски достигается путем лишений, а подлинные лишения доставляет нам пребывание в закрытой школе — пансионе. У Черри был к тому же племянник, который обучался в академии мистера Гримбла. Звали его Сефтон Бойд. Черри же привычнее было называть его «милый Кенни». Вторым испытанием, даже более жестоким, являлась, конечно, армия. Первой жертвой ее стал Маспоул, затем — Морри Вашингтон, затем — Сид. Каждый из них в свой черед с грустной улыбкой повиновался этой неизбежности. Настал день, когда, к досаде и удивлению своему, был призван в армию и сам Рик. В дальнейшем он сумел выработать более терпимое отношение к службе, но тогда вид повестки на столе вызвал у него приступ праведного гнева.
— Черт побери, Лофт, а я-то думал, что мы позаботились обо всем этом! — негодующе бросил он Перси, избавленному от подобных переживаний.
— Мы и позаботились, — отвечал Перси, указывая пальцем в мою сторону. — Ослабленный ребенок, мать — в лечебнице для душевнобольных. Все было встречено с пониманием.
— Так что же стало с их пониманием сейчас, черт тебя возьми? — вопросил Рик, сунув под нос Перси повестку. — Стыд и позор, вот это что такое, Лофт!
— Не надо было тебе говорить старушке Черри о Липси! — несколько позднее с раздражением бросил Перси Лофт Пиму. — Она пошла и от обиды настучала на твоего папу.
Однако сдаваться армия не желала, и поредевший «двор», состоявший теперь из Перси Лофта, выводка мамаш, Олли и мистера Кадлава, ничего не оставалось делать, как сняться с места и переселиться в задрипанную гостиницу в Бредфорде, где Рик был вынужден совмещать занятия строевой подготовкой на плацу с тяготами финансового руководства. Используя разменный автомат гостиницы и ее кредит, печатая и подшивая бумаги в гостиничных номерах, загружая таинственными грузами гостиничный гараж, «двор» мужественно вел арьергардные бои, пытаясь избежать окончательного поражения. Но все усилия были тщетны. Вспоминается воскресный вечер. Рик в форме рядового, только что отутюженной, должен отбыть в бараки. Под мышкой у него зажата мишень для метания дротиков, которую он хочет презентовать офицерскому клубу, ибо Рик твердо поставил своей целью превзойти всех по части услужливости и тем обеспечить себе право облегчать нам наши тяготы.
— Сын. Для тебя настало время твердо вступить на тернистый путь, который должен привести тебя, к радости и гордости отца твоего, к посту лорда главного судьи. Все вокруг тебя погрязло в лени, и ты тоже отдал ей дань. Кадлав, погляди на его рубашку. Деловой человек и грязная рубашка — несовместимы. Погляди на его волосы! Да еще немного и его можно будет принять за хиппи. Тебя ждет закрытая школа, сынок, и да благословит тебя Бог, как и меня, впрочем.
Еще одно по-медвежьи крепкое объятие, финальное глотание слез, одно величественное рукопожатие на благо отсутствующих фоторепортеров — и великий муж отбыл на войну. Пим глядел, пока он не скрылся из виду, а потом крадучись поднялся по лестнице туда, где временно размещались муниципальные квартиры. Дверь оказалась незапертой. Внутри пахло женщиной и тальком. Двуспальная кровать была в беспорядке. Он вытащил из-под нее портфель свиной кожи, вытряхнул из него содержимое и, как это бывало не раз, подивился количеству непонятных папок и неразборчивых писем. Адмиральский костюм для загородной местности, снятый только что и еще теплый, висел в гардеробе. Он порылся в карманах костюма. Зеленый шкафчик, еще более облупленный, чем обычно, выглядывал из своего обычного темного угла Почему он всегда держит его в шкафах и кладовых? Пим попробовал вытянуть запертые ящики. Почему этот шкафчик путешествует отдельно от всех других вещей, словно он заразный?
— Деньги ищешь, Пострел, да? — услышал он вдруг женский голос, идущий со стороны двери в ванную. — Это была Дорис, классная машинистка и отличная ищейка. — Мой тебе совет: не трудись. Папа твой брал все в кредит, я проверяла.
— Он говорил, что оставил в своей комнате шоколадку для меня, — решительно ответил Пим, продолжая поиски под ее взглядом.
— В гараже три сотни плиток армейского шоколада — молочного с орехами. Угощайся, пожалуйста, и там же бензинные талоны, если желаешь.
— Эта шоколадка особая, — пробормотал Пим.
* * *Я так и не понял, в результате каких махинаций Пим и Липси очутились в одной школе. Просочились по очереди или были отправлены туда вместе — один, чтобы учиться, другая, чтобы продавать свой труд в качестве платы за его обучение. Подозреваю, что вместе, но доказательств не имею, кроме общего представления о методах Рика. Всю жизнь Рик использовал труд преданных ему женщин, которых он то отвергал, то вновь возвращал к жизни. Когда «при дворе» они не требовались, их отправляли куда-нибудь для пользы дела, дабы они облегчали проведение очередной кампании пожертвованиями из средств, вырученных от продажи драгоценностей или просто своими сбережениями или кредитами, которые они брали на свое имя, когда имя Рика было под запретом. Но у Липси не было драгоценностей, и кредиты в банке ей были также недоступны. Все, что у нее было, это ее красота, ее музыка, ее виноватая скорбная задумчивость и маленький английский школьник — единственная ее связь с миром. Сейчас я подозреваю, что Рик уже различал в ней постепенно накапливающиеся грозные симптомы и решил поручить ее мне для опеки. Как бы там ни было, польза от нашего партнерства была обоюдная, а Рик был самым настоящим отступником, и больше ничего.
Если ко времени поступления в загородную академию мистера Гримбла, предназначенную для сыновей благородных джентльменов, Пим имел хоть какое-то образование, то благодарить за это надо было Липси, а никак не десятки школ первой ступени, воскресных школ и детских садов, на обочине тернистого и полного превратностей жизненного пути Рика. Липси обучала Пима письму, и по сей день я пишу букву «t» на немецкий манер, к букве «z» добавляю перекладину. Она обучала его орфографии, и они часто смеялись, что оба не могут запомнить, сколько «d» в английской разновидности слова «адрес», и даже сейчас я не могу с точностью ответить на этот вопрос, пока не напишу сперва немецкий вариант. Все, что знал Пим, если не считать отдельных кусков Святого Писания, имело своим происхождением фибровый чемодан Липси, потому что при каждом ее свидании с Пимом она старалась залучить его к себе в комнату и, хотел он того или не хотел, преподать ему что-нибудь — из географии или истории или, на худой конец, пусть упражняется в гаммах на ее флейте.
— Видишь ли, Магнус, без знаний мы ничто. А имея знания, можешь отправляться куда угодно — это как черепаха, несущая на спине свой домик. Научишься живописи — можешь заниматься этим где только пожелаешь. Скульптор, музыкант, художник — они не нуждаются в пропусках. Все, что им надо, — это их головы. Весь мир должен заключаться у нас в голове. Это единственный безопасный способ выжить. А теперь сыграй Липси какую-нибудь красивую мелодию.
Жизнь в заведении мистера Гримбла была торжеством подобных принципов. Мир заключался в головах учеников, но не в меньшей мере он заключался и в кирпично-каменном строении — домике садовника в конце длинной подъездной аллеи, носившем название Дополнительный дом, приюте тех мальчиков, среди которых последним новобранцем стал Пим. А Липси, его милая верная Липси, стала мамашей этим мальчикам — самой лучшей и самой чуткой. С самого начала они поняли, что они изгои. А если б даже и не поняли, им разъяснили бы это все восемьдесят мальчиков с другого конца подъездной аллеи. Среди его соседей были бледный сын бакалейщика, отец его считался мелкой сошкой даже среди своих собратьев по гильдии. Было три еврея, мешавшие в речи английский с польским. Были безнадежный заика, звавшийся М-М-Марлин, и индус с кривыми ногами — отца его убили японцы, когда взяли Сингапур. И рядом с ними — Пим с его прыщами и ночным недержанием мочи. Но под руководством Липси они ухитрялись как-то перемогаться и даже радоваться жизни. Если мальчики с другого конца аллеи были батальоном гвардейцев, то ученики, жившие в «Дополнительном доме», были штрафниками, которым приходилось добывать свои медали ценой огромных усилий и риска. Штат учителей состоял из тех, кого мистеру Гримблу удалось набрать, а набрать ему удалось тех, кого не востребовала Родина. И мистер О’Малли так дергал за уши учеников, что те теряли сознание, а мистер Фарнберн имел привычку бить учеников головами друг о друга и даже проломил кому-то череп. Преподаватель естествознания называл окрестных мальчишек, забравшихся в сад, большевиками и стрелял из дробовика, целя им в задницы, когда те со всех ног удирали от него. В учебном заведении Гримбла учеников пороли за опоздания и неряшливость, пороли за нерадивость и за нахальство, пороли за то, что порка не идет им впрок. Война выявляла в людях жестокость, жестокость преподавателей усугублялась еще чувством вины от того, что они не в армии, а хитрость и негибкость британской иерархической системы с непреложностью превращала эту жестокость в садизм. Их Бог был защитником английских сквайров, а справедливостью они считали наказания, которым подвергались невоспитанные и низкорожденные неудачники — отмерялись же эти наказания через посредство сильных, а самым сильным и красивым из всех был Сефтон Бойд.