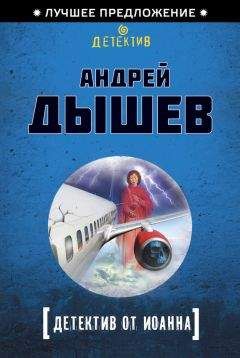Сергей Смирнов - Канарский грипп
— Браво! — негромко сказал старичок и беззвучно похлопал в ладоши. — Мне говорили, что нет ни малейшего внешнего сходства, но теперь я вижу, что внешнее сходство ничего не значит.
— Вы, должно быть, наслаждаетесь интригой не меньше, чем я, — мрачно проговорил Брянов.
— Простите меня, молодой человек, такова естественная последовательность событий, — ответил старичок. — Позвольте мне высказать до конца свою мысль, а то я по дряхлости ума могу потом запамятовать… я не сомневаюсь, эта мысль вам когда-нибудь пригодится… а затем я сразу перейду к сути дела.
— Если вам угодно, — позволил Брянов.
Он волевым усилием перенес сигарету в пальцы правой руки, затянулся и сразу, ощутил какое-то неудобство и общую дисгармонию вселенной.
— Речь пойдет именно о христианском подходе к смерти и воспоминаниям. Помните слова разбойника, распятого вместе с Христом? «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». В этих словах заключен весь смысл жизни. Мы существуем, пока нас помнит Бог. Наше истинное бытие есть частица Его всеобъемлющей памяти. Если Он о нас запамятует… просто возьмет и по-человечески запамятует, чего, конечно, быть не может, мы исчезнем, сами того не заметив. Представьте себе, что какой-нибудь человек, даже близкий вам, существует лишь постольку, поскольку вы его конкретно помните. Забыли на минуту — и он пропал с этой грешной земли на минуту… и так далее. Любопытно, не правда ли?
— Скорее зловеще…
— Согласен… но зловеще постольку, поскольку мы сами немощны и грешны, дорогой Павел… да, Александр Сергеевич. Но пока всемогущий Бог помнит о нас, грешных, мы сами не боимся о ком-нибудь немного запамятовать… и в конце концов не страшно, если некая злая сила и вовсе лишит нас памяти, нашей единственной частной собственности… Надо лишь очень сильно постараться не забыть одну-единственную смиренную просьбу: помяни меня, Господи, во Царствии Твоем.
Брянов внезапно почувствовал, что пьянеет. Кровь застучала у него в висках.
Он оставил папиросу в пепельнице и откинулся назад, думая отдышаться.
— Вам нехорошо? — побеспокоился старичок.
— Ничего, — глухо ответил Брянов. — Я не был готов к такой теме…
Ему стало легче, и он улыбнулся:
— Вы правы… эти папиросы… как будто была прошлая жизнь. Все по порядку. Вы представили вещественные доказательства. Полагаю, достаточно. Я проникся… Мне кажется, что теперь я готов поверить в любые чудеса.
Старичок помолчал и с грустным выражением огляделся по сторонам.
— Последний раз я побывал в этом монументальном заведении очень давно, — проговорил он. — Жизнь быстро проходит. До сей минуты испытываю ностальгические чувства, хотя вижу совсем иной мир, иную эру. Я, знаете ли, родом из палеозоя, а тут уже эпоха оледенения близится к концу… Это было лето одна тысяча девятьсот тридцать шестого года от Рождества Христова. Правда, тогда считали как-то по-другому. Я был молод, моложе вас… и очень многого не ожидал. Тогда в Москве проходил Всемирный конгресс молодых ученых, и в этих самых стенах был дан правительственный обед в честь, так сказать, интеллектуального будущего планеты. Я удостоился чести лицезреть тогдашнее божество. Но, как ни странно, именно это, самое сильное мое впечатление того года… тех лет, не имеет теперь ни малейшего значения. Зато вместе со мной за столиком тогда сидел молодой симпатичный человек, брюнет, на которого я поначалу не обратил никакого внимания. Между тем именно он оказал самое большое влияние на всю мою последующую жизнь… и, вероятно, — даже на грядущую смерть. А кроме того, ныне мы двое, представители совсем разных эпох и миров, собрались здесь именно по его воле… В тот летний день мы выпили прекрасного крымского вина… игристого, как помню, у вас оно именуется шампанским… и разговорились. У вас еще не вертится на языке его имя?
Брянов посидел, прислушиваясь к себе. Тоска совсем утихла, и он пожал плечами.
Старичок снова потянулся за пазуху, вытащил оттуда плотно набитый какими-то тайнами конверт, положил его перед собой — и потянулся через стол.
Он тихо произнес:
— Риттер… Павел Теофилович Риттер.
Брянов весь напрягся. Имя было звучным, неожиданным — готовый детонатор для воспоминаний, но…
Он вновь пожал плечами.
— Правильнее всего: Пауль Риттер. Verstehen Sie? («Понимаете меня?»)
— Noch nicht («Нет еще»), — уверенный в себе, ответил Брянов.
— Вот здесь и кроется та удивительная тайна, на которую я намекал своими богословскими фиоритурами, — в явном удивлении проговорил старичок на том же ясном немецком языке, с которым у Брянова не стало вдруг никаких трудностей.
Старичок же стал возиться с конвертом и, справившись, вынул из него несколько фотографий, на вид древних, но очень четких…
Только черное и белое, только свет и тени успел различить Брянов на верхней фотографии, как вдруг у него помутилось в глазах и в висках застучала кровь…
Он отвернулся в сторону. Официант протирал бокал, искоса, но пристально наблюдая за ними.
— Начнем с этой, — решил Петр Евграфович Гладинский уже на русском. — Просто портрет без определенного места…
Брянов, протягивая за фотокарточкой руку, отодвинул рюмку и, нечаянно плеснув через край, ощутил на пальцах спиртовой холодок.
Это был «просто портрет». Фон — стена с одним неясным пейзажиком в скромной рамке. Молодой человек лет двадцати пяти, черноволосый, с мягкими чертами лица, небольшим ртом, негордым взглядом темных глаз, в светлой сорочке и коротковатом галстуке в контрастную полоску. Он был очень знаком Брянову, грустно знаком, как какой-то добрый, но уже давно умерший друг.
Старик ждал, прижав остальные картинки к груди.
— Не помню, — признался Брянов. — Он жив?
Старик заморгал, потом свел брови.
— Очень сомнительно… Только чудом… Вы ничего не скажете?
— Нет. Но мне кажется, что он где-то очень близко…
— А вот это вполне вероятно… На вид уроженец Швабии, однако… Вот вам еще одна подсказка.
Старик протянул еще одну фотокарточку.
Брянова охватил жар. Он даже не смог поначалу разглядеть фигуры людей и здание, что виднелось на заднем плане. Он увидел вдруг, он ясно, объемно вспомнил то, что возникло перед его внутренним взглядом — шире этой картинки, больше и ярче всего мира, который им, Бряновым, пока обладал… Вздымающаяся в закатное небо темная филигранность ели — утреннее небо с белым послушным облачком змея — большая белая собака, радостно бегущая навстречу по кристально зеленой траве. И еще он увидел, ощутил душой — незримый и великий простор, когда-то, какой-то злой силой отнятый у него так безжалостно и так неотвратимо, что уже не было никаких сил вынести потерю.
Картинка помутилась, расплылась у него в глазах… помутились на ней, затрепетали фигуры: высокого человека со «старинными» чертами лица, со «старинной» бородкой, в старинной военной форме… женщины в широком светлом платье, тех же давних времен, канувших в бунинские аллеи… ребенка в матроске, как у царевича… белого дома с колоннами, мезонином, флигелями.
И снова стали вспыхивать в памяти: змей в небе — собака — стол в ажурной беседке — колеблемые ветром углы белой кружевной скатерти — большая тарелка с яркой золотой каймой, полная клубники, — и бесчисленные и прекрасные образы, мелькавшие уже совсем неуловимо, — и снова простор, которого Брянов никогда еще в своей жизни не знал… Слезы душили его, он боролся с собой и вдруг вспомнил про черненький диктофон, спрятанный у него в кармане и там мерно тянувший свою тонкую ленточку.
— Александр Сергеевич… Александр Сергеевич, — тихо позвал его старик. — Я даже не мог себе представить, что вас так проймет… Вы многое вспомнили?
— Не знаю… — очнулся Брянов. — Я никогда там не жил… не мог.
Слово, легкое, как тот летний ветерок, шелестящее листвой, вспоминалось ему, напоминало о себе. «Лис… Лист… Лисовое…»
— Я понимаю вас… Позвольте вам показать еще?
«Лисовое»… Где-то оно было, уже притягивало издалека, будто какой-то волшебный магнит, который чем дальше, тем тянет сильнее.
— Если… — Брянов не разобрался, что это за «если». — Давайте… Давайте сразу все.
Но старичок поостерегся.
Белый пустой прямоугольник приблизился к Брянову, повернулся к нему другой стороной…
Пальмы. Элиза! Ее улыбка! Ее глаза!
У Брянова перехватило дыхание.
— Еще! — задыхаясь, прошипел он.
— Может быть…
— Еще!
Еще один белый прямоугольник. Обратная сторона застывшего, как муха в янтаре, бытия… Он перевернул. Элиза! И с ней тот человек! Улица. Домики, окошки, как в сказках Андерсена. Кто?! Брянов не выдержал. Он просто зарыдал в голос, ничего не зная, ничего больше не желая знать и понимать, не в силах справиться с захлестнувшей его невыносимой тоской. Он плакал, как пьяный, хотя ничуть не пьянел, плакал от страшной обиды, какой не испытывал лет с шести, когда так неудержимо ревел в последний раз. Тогда какой-то мальчишка, старше его, отнял у него во дворе грузовик и убежал…