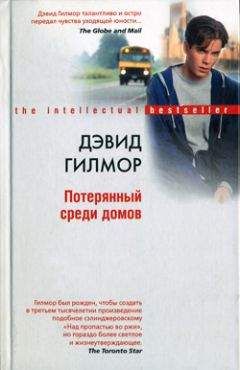Джон Ле Карре - Идеальный шпион
Мамаши, все крупные, в безукоризненно строгих форменных платьях, так явственно напоминают надзирательниц, что поневоле заподозришь, не поставляло ли их Мейкпису какое-нибудь агентство, по совместительству набирающее штаты в заведения для малолетних преступников. На груди у одной из них — медаль, похожая на Железный Крест. Я не хочу сказать, что доброта вовсе уж была им несвойственна. Улыбки их лучатся благочестием и оптимизмом, но выражение глаз говорит о том, что они постоянно начеку и готовы в любую секунду пресечь преступные наклонности своего подопечного. Липси на этих фотографиях отсутствует, а бедняжка Дороти, единственный товарищ Пима по этому принудительному заключению, маячит где-то на заднем плане — еще более нелепая, чем всегда. Когда Пима пороли, Дороти врачевала его раны, но никогда не подвергала сомнению необходимость порки. Когда его в качестве наказания за то, что он опять намочил постель, заворачивали в позорные подгузники, Дороти умоляла его не пить на ночь. А когда его и вовсе оставляли без чая, Дороти сберегала ему собственные печенья, и, оставшись с ним наверху, в уединении спальни, скармливала их ему по очереди, как бы просовывая печенье за печеньем сквозь невидимые прутья решетки. В Раю случались веселые деньки, когда Пим и Дороти обменивались шутками. Теперь же виноватая тишина, воцарившаяся в доме, исключала самую возможность шутить. С каждым днем Дороти все больше замыкалась в себе, и ни самые смешные его истории, ни самые ловкие его трюки, ни самые лучшие из картинок, которые он рисовал ей, не способны были удержать мимолетную улыбку на ее лице. По ночам она стонала и скрипела зубами. Зажигала свет, и тогда Пим просыпался и начинал мечтать о Липси, глядя на Дороти, немигающим взглядом уставившуюся вверх на Вифлеемскую звезду из белой бумаги, служившую им вместо абажура.
Если б Дороти была при смерти, то, вне всякого сомнения, Пим безропотно ухаживал бы за ней. Но при смерти она не была и поэтому вызывала в нем одно только раздражение. Постепенно ее общество и вовсе стало тяготить его. Он гадал, не лучше ли было забрать у него мать вместо отца и не Липси ли его настоящая мать, подмененная в результате некой ужасной ошибки, раз и навсегда все объясняющей. Когда началась война, Дороти ничуть не обрадовалась этому потрясающему известию. Мейкпис включил приемник, и Пим слушал, как мужской голос с важностью объяснял, что он делал все возможное, чтобы это предотвратить, а мистер Филпотт, приглашенный к чаю, все спрашивал сокрушенно, где же, Господи Боже, может развернуться театр военных действий? Мейкпис, которого ни один вопрос не мог застать врасплох, немедля ответил, что Господь решит это. Пим, изнывавший от любопытства и возбуждения, тут же приступил к нему с собственными расспросами.
— Но, дядя Мейкпис! Если Господь может решить, где будет театр военных действий, то почему бы ему вообще не остановить эти действия? Значит, он не хочет. Мог бы, и очень просто, да не хочет. Не хочет, и все!
До сего дня я не знаю, который грех страшнее — задавать вопросы Господу Богу или задавать вопросы Мейкпису. Так или иначе, но расплата была одинаковой: посадить его на хлеб и воду, как посадили его отца!
Но истинным наваждением в «Полянах» был не гуттаперчевый, с розовыми ушками дядюшка Мейкпис, а сумасшедшая тетя Нелл, в темных очках, которая вдруг ни с того ни с сего пускалась преследовать Пима: замахивалась на него палкой, называя его при этом «моей канареечкой» из-за желтого свитера, который Дороти ухитрилась все же связать ему в перерывах между приступами слез. У тети Нелл была белая палка — для форсу и коричневая — для ходьбы. Видела она преотлично, если только не была с белой палкой.
— Тетю Нелл шатает, когда она прикладывается к бутылке, — сказал однажды Пим Дороти, желая вызвать у нее улыбку. — Да-да, я видел! А бутылку она прячет в теплице.
Но Дороти не то что улыбнулась, а очень испугалась. Она заставила его дать честное слово никогда больше не говорить таких вещей. «Тетя Нелл больна, — объяснила она. — Болезнь свою она держит от всех в секрете, и лекарство ее — тоже секрет. Никто не должен ничего знать о нем, а не то тетя Нелл умрет и Боженька очень рассердится». Много недель после этого Пим хранил этот интереснейший секрет — совсем как тот секрет, что доверил ему Рик, но новый был лучше и постыднее. Это было как деньги, когда ему их дали в первый раз — такой же знак могущества и власти.
«Как бы получше распорядиться таким могуществом? — думал он. — Кому уделить от него? Оставить ли в живых тетю Нелл или убить за то, что называет меня „своей канареечкой“?» Он остановил свой выбор на миссис Баннистер, кухарке.
— Тетю Нелл шатает, когда она прикладывается к бутылке, — поведал он миссис Баннистер, стараясь передать эту новость в тех самых выражениях, что так ужаснули Дороти. Но тетя Нелл не умерла, а миссис Баннистер уже знала про бутылку и дала ему подзатыльник за замечание, столь наглое. И что было совсем плохо, она, видимо, передала все дяде Мейкпису, который в тот же вечер посетил их тюремный флигель, что позволял себе довольно редко, и долго ругался там, пыхтя и потея и тыча пальцем в Пима, обличая зло в образе Рика. Когда он наконец ушел, Пим переставил кровать, загородив ею дверь на случай, если Мейкпис решит вернуться и порычать еще немного, но тот так и не вернулся. Тем не менее подрастающий шпион извлек из этой истории один из первых уроков: в опасном разведывательном деле важно помнить — все люди — болтуны.
Следующий усвоенный им урок был не менее поучительным и касался опасностей, подстерегающих всякого, пытающегося наладить связь на оккупированной территории. К тому времени Пим ежедневно писал письма Липси, опуская их в почтовый ящик у задней калитки. Письма эти, как ни стыдно сейчас ему в этом признаваться, содержали бесценную информацию, переданную почти в открытую, без всякого шифра: как проникнуть в «Поляны» ночью; в какие часы он упражняется на свежем воздухе; карты и планы; психологические характеристики его гонителей; деньги, которые он скопил; точное расположение вражеских постов; как пробраться через задний двор и где хранится ключ. «Меня похитили страшные разбойники», — писал он, вкладывая в письмо рисунок: тетя Нелл и вылетающие у нее изо рта канарейки — как доказательство повседневных ужасов, его окружающих. Загвоздка была лишь в одном: не имея адреса Липси, Пим надеялся лишь на то, что на почте знают, как ее разыскать. Но доверился он не тем, кому следовало. В один прекрасный день почтальон передал всю пачку этих секретнейших донесений в собственные руки Мейкписа, призвавшего к себе мамашу № 1, в свою очередь призвавшую Пима к совершению искупительного наказания, несмотря на все его хныканья, слезные мольбы и льстивые заверения. Пим порку ненавидел и не проявлял должного мужества, когда над ним нависала угроза расправы. С тех пор он довольствовался лишь высматриванием Липси в автобусах и униженным расспрашиванием проходивших мимо задней калитки, не встречалась ли им Липси. С особым пристрастием расспрашивал он полицейских, которым привык теперь щедро дарить улыбки.
— У моего папы есть старинный зеленый шкафчик, а внутри разные секреты, — поведал он однажды полицейскому, которого встретил в парке, когда гулял там с матерью.
— Да неужто, сынок? Что ж, спасибо, что сообщил нам, — сказал полицейский, сделав вид, что записывает.
Между тем к Пиму просочились известия, правда, не о Липси, а о Рике — обрывки смутных сведений, столь смутных, словно выуженных из сообщений плохо работающего передатчика. Папа твой в порядке. Отлучка пошла ему на пользу. Он похудел, но кушает хорошо, и волноваться нам не надо. Он занимается спортом, читает свою юридическую литературу — потому что опять хочет учиться. Источником этих клочковатых сведений был Другой Дом, расположенный в бедной части Чистилища, возле коксового завода, дом, о котором нельзя было упоминать в присутствии Мейкписа, потому что именно оттуда родом был Рик, навлекший позор на всех достославных Уотермастеров, не говоря уже о том, что он осквернил память Ти-Пи. Держась за руки, как заговорщики, Дороти и Пим ехали туда по улицам, темным, как дымоход, в троллейбусе, окна которого были затянуты противоударной сеткой, а лампочки внутри горели синим светом, чтобы сбить с толку немецких летчиков. В Другом Доме хрупкая, но стойкая ирландская леди с энергичным подбородком давала ему полкроны из пивной бутылки, одобрительно щупала его мускулы и называла его «сынок» — совсем как Рик! На стене там висел тот же фотопортрет Ти-Пи на тоновой бумаге, но рамка была не золотой, а деревянной, как гроб. Приветливые тети угощали Пима сладостями, изготовленными из их сахарных пайков, со слезами обнимали его и обращались с Дороти как если бы она была королевой, лишившейся трона. Они одобрительно хохотали над паясничаньем Пима и хлопали в ладоши, когда он пел «Под сводами»: «Давай, Магнус, покажи нам теперь сэра Мейкписа!» Но этого делать Пим не смел, опасаясь гнева Божия, который, как научила его история с тетей Нелл, бывает скор и беспощаден.