Душан Калич - Подвиг (Приложение к журналу "Сельская молодежь"), т.6, 1985 г.
Доктор Краус сидел и смотрел в огонь, помешивая в камине длинными каминными щипцами. Делал он это механически, не замечая, что слишком низко нагнулся и что языки пламени, поднимавшиеся над раскаленным пеплом, могут лизнуть лицо и опалить волосы. В глазах трепетал блеск, выдавая отчаяние мученика, видевшего себя на костре. Он горел вместе со своими бумагами. Огонь глотал то, во что он вложил свои знания, — результат многолетнего преданного служения Германии и фюреру; горели «эпохальные открытия» — результаты научных опытов: как арийской расе привить иммунитет к инфекциям и болезням, которыми страдал мир «недочеловеков»; как достичь долголетия «сверхчеловека» в «тысячелетнем рейхе» фюрера... Горела его душа, горел он сам; все превращалось в пепел под взвивающимися языками пламени, которое он каминными щипцами придвигал все ближе к себе.
Щипцы разбили груду черного смолистого пепла, и оттуда на миг вырвалось пламя. На стене задвигались тени — поднялись высоко, соскользнули и пропали в бледном свете.
Он оставил щипцы в камине и взял с пола последнюю папку. Надпись готическим шрифтом на белой обложке гласила: «Лаборатория д-ра Людвига Крауса. Опыт с сывороткой Е-15». В ней находился десяток исписанных страниц, скрепленных металлическим зажимом, который мог вобрать еще сотню таких же листков. Совсем тоненькая по сравнению с теми, что уже обратились в пепел в огне камина, она казалась невзрачной и жалкой, как брошюрка, затесавшаяся между томов энциклопедии. Каждая папка под своей обложкой содержала сотни страниц, скрупулезно заполненных на пишущей машинке, а эта, в белой обложке, начала заполняться только в лаборатории вивисекции. У Крауса были причины расстраиваться при виде растущего количества пепла. Но в эту минуту все его существо было устремлено к белой папке. Именно она и ее судьба вызывали у него настоящее отчаяние.
Он держал эту тонкую папку на коленях, тупо разглядывая крупные черные буквы на обложке. Медленно переводил взгляд с одной буквы на другую, перечитывал заголовок бог знает в который раз, словно постигая буквы неизвестного алфавита. Сидящее глубоко внутри какое-то неясное чувство, мешавшееся с болью и тяжестью, от которой даже замирало сердце, удерживало его от намерения раскрыть папку и еще раз перелистать вложенные в нее страницы. И хотя с самого начала, как только он разжег камин и бросил в него первый листок, он чувствовал как бы веление души, неумолимо тянувшее его в огонь ненавистного камина, который почему-то все больше напоминал пасть печи крематория, пальцы его никак не могли разжаться и выпустить последнюю папку. Он беспомощно смотрел на них. Казалось, руки живут сами по себе. Мозг сверлила мысль: «Если ты откроешь эту папку, сможешь ли ты бросить ее в огонь?» Он нашел в себе силы сжечь другие папки. Но они лишь отчасти носили печать его личности. Все, что было заключено в них, находилось под сенью имени доктора Менгеле, которому была подчинена и лаборатория до тех пор, пока не окрепла его дружба с гаулейтером Цирайсом. Однажды он доверился ему, что без ведома доктора Менгеле приготовил новую сыворотку, и попросил замолвить словечко перед рейхсфюрером СС Гиммлером. Цирайс оказал содействие в получении самых широких полномочий для самостоятельной экспериментальной работы по вивисекции. Однако, увы, слишком поздно! Конец пришел почти в самом начале. Вынужденный спешно покинуть свою лабораторию, он теперь мог лишь проклинать судьбу и поносить доктора Менгеле за то, что тот годами мешал ему предстать перед фюрером с собственными открытиями. Злился он и на бога, который, оставив Германию и Адольфа Гитлера, поступил особенно несправедливо с ним. Перебирая в памяти все эти события, Краус наконец понял, что заставляет его пальцы сжимать папку и вместе с тем ощущать душевный трепет, увлекающий его в огонь камина.
Скрюченные пальцы сделали свое, прежде чем он додумал мысль, которую хотелось высказать вслух: «Это мое, доктор Менгеле! Только мое!» Белая папка распахнулась, и взгляд упал на первую страницу. Листок, прикрытый прозрачной бумагой, отличался от прочих качеством бумаги и важностью того, что на нем было написано. Это был документ, подписанный Гитлером, которым ему, доктору Людвигу Краусу, шефу специального медицинского учреждения в концентрационном лагере М., разрешалось применение сыворотки Е-15 и предписывалось лагерным властям предоставлять для этого эксперимента неограниченное число заключенных.
Он недолго разглядывал этот листок. Что-то сжало горло, а пальцы опять, словно сами собой, стали торопливо перелистывать страницы: формулы, за которыми скрывался состав сыворотки; выбор типов заключенных для опыта; их группа крови, подробные лабораторные анализы и рентгеновские снимки; национальность, социальная и политическая принадлежность; срок пребывания в заключении и лагерные номера; питание перед началом опыта и во время его проведения. И наконец — последняя страница. Здесь, под датой — 20 апреля 1945 года, — его рукой было приписано: «Во славу фюрера. В честь дня рождения Адольфа Гитлера». Это был день начала опытов. День, когда они прервались, не был обозначен.
Ему трудно было смотреть на эту страницу. Закрыв глаза и крепко сжав зубы, словно сдерживая стон, он захлопнул папку, судорожно прижал к себе и резко отвернулся от камина.
— Майн готт, это выше моих сил... — сказал он.
Входная дверь распахнулась стремительно и с шумом. Словно принесенный ветром, появился Шмидт. Оставив дверь настежь открытой, дошел до середины комнаты. Нервозно, с выражением ярости, словно ища что-то в комнате, в которой оказался впервые, огляделся. Увидев Крауса, сидевшего возле потухшего камина и таращившего глаза в стену, увешанную охотничьими трофеями, остановился за его спиной и процедил сквозь зубы:
— Мюллер и охрана нас бросили! Эта свинья Мюллер! — Поскольку Краус не ответил, он обошел вокруг кресла, встал перед доктором, нимало не удивившись его страдальческому виду. Шмидт заговорил, несколько изменив гон, пытаясь скрыть свои истинные чувства: — Вы, похоже, не понимаете, что это значит. Мы оказались одни, дорогой доктор... Вы понимаете? Это значит, что оставшийся путь мы должны пройти без всякой охраны. Кончайте вы с этими бумагами и собирайтесь. Оденьтесь в гражданское... — Не глядя больше на Крауса, он из кармана своего мундира достал воинские документы, мельком проглядел их и бросил в камин. Направляясь в свою комнату, мимоходом добавил: — Сделайте то же самое со своим офицерским удостоверением.
Краус даже бровью не повел. Он видел перед собой Шмидта, слышал и понимал каждое его слово. Он представил себе, какое потрясение испытывал Шмидт, узнав о предательстве Мюллера. Он понимал положение, в котором оба они неожиданно оказались, плохо скрываемую ярость Шмидта и его страх оттого, что тот остался один, ведь теперь — пока не доберутся до Цирайса — он должен уповать лишь на собственные силы. Краус был убежден, что самоуверенный Шмидт при создавшемся положении не станет рассчитывать на него. Он проводил его взглядом, не сказав ни единого слова. Не выпуская белой папки из рук, он опять поддался своему отчаянию, которое усилилось еще больше из-за возникшей неизвестности: удастся ли им добраться до Цирайса?
Шмидт остановился перед дверью, взялся за ручку, но, вспомнив что-то, обернулся и сказал:
— Надо бы посмотреть карту. Насколько я помню, до Перга можно добраться и каким-то кружным путем... — Помолчал немного и, поскольку Краус опять ничего не сказал, открыл дверь и уже с порога добавил: — Поторопитесь!
После того как Шмидт захлопнул за собой дверь, Краус повернулся в кресле и какое-то время смотрел в камин. Затем тряхнул головой, желая освободиться от скованности, и сказал сам себе: «Ты должен поторопиться...» Нагнулся, взял каминные щипцы и стал разгребать пепел, однако вскоре бросил. Огонь погас совсем. Краус подтянул щипцами валявшиеся на полу страницы, бросил их в камин и поджег зажигалкой. Бумага вспыхнула. Он закрыл глаза и медленно, словно мучительно сопротивляясь какой-то невидимой силе, увлекавшей его в бездну, стал клониться к камину. Неожиданно и резко, будто его опалил огонь, отдернул руки и выпустил папку. Обложка сначала свернулась, затем почернела, и над ней взметнулись языки пламени. На стене появились огромные тени и заслонили рогатые охотничьи трофеи.
Шмидт недолго задержался в своей комнате. Переодетый в тирольский костюм, со шляпой на голове и ранцем в руках, он начал еще с порога.
— Мне говорили, что гражданский костюм мне идет, а я себе в нем кажусь удивительно глупым, — сказал он, подходя к столику в центре комнаты. Опуская на него ранец, он мельком взглянул на спинку кресла, в котором сидел Краус, и, не увидев его, повернулся к дверям его комнаты, которые были открыты. Удовлетворенно кивнув, сел в одно из кресел и продолжал: — Я вас никогда не видел в гражданском костюме... Мы не должны забывать, что с этой минуты меняем свою личность.

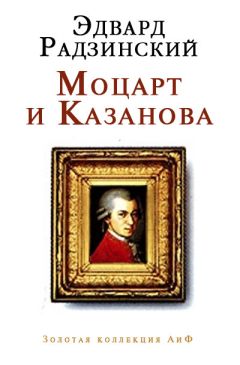
![Василь Быков - «Подвиг», 1989 № 05 [Антология]](/uploads/posts/books/147491/147491.jpg)

