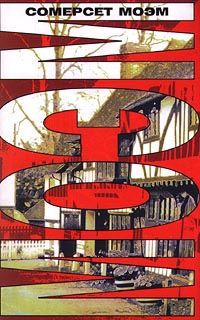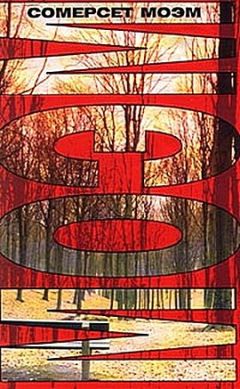Уильям Моэм - Эшенден, или Британский агент
Он повернул лошадь и легкой рысью поехал обратно в Женеву. Грум из конюшен уже поджидал его у дверей отеля, и, перекинув ногу через седло, Эшенден спешился и вошел в вестибюль. Вместе с ключом портье вручил ему телеграмму следующего содержания:
«Тетя Мэгги серьезно больна. Остановилась отеле «Лотти» Париже. Если можно, приезжай ее навестить. Реймонд».
Именем «Реймонд» иногда в шутку подписывал свои письма Р., а поскольку у Эшендена, к несчастью, не было никакой тетушки Мэгги, он заключил, что это приказ ехать в Париж. Эшендену всегда казалось, что в свободное время Р. увлекается чтением детективов: вероятно, поэтому он нередко, находясь в хорошем настроении, имел странную привычку подражать в своих письмах стилю дешевых криминальных романов. Если Р. пребывал в отличном расположении духа, это означало, что он собирается нанести противнику удар; когда же удар был нанесен, настроение у него портилось и он срывал свое раздражение на подчиненных.
С нарочитой небрежностью швырнув телеграмму на стойку, Эшенден спросил портье, в котором часу уходит парижский поезд, после чего мельком взглянул на висевшие на стене часы — успеть бы до закрытия консульства получить французскую визу. Когда он направился к лифту, чтобы подняться к себе в номер за паспортом, портье вдогонку ему крикнул:
— Мсье, вы забыли телеграмму!
— Вечно я все забываю! — бросил Эшенден.
Теперь Эшенден мог быть спокоен: если австрийской баронессе почему-то станет интересно, с какой стати ему вдруг понадобилось срочно выехать в Париж, она обнаружит, что его отъезд вызван болезнью пожилой родственницы. Перестраховаться, особенно в это неспокойное военное время, никогда не вредно. Во французском консульстве его знали, и получение визы много времени не заняло. Вернувшись в отель, он поручил портье взять билет на поезд и, поднявшись наверх, принял ванну и переоделся. Неожиданный отъезд ничуть его не смущал. Он любил путешествовать. В поездах он спал хорошо, а если и просыпался от неожиданного толчка, то с удовольствием лежал некоторое время без сна в маленьком, уютном купе спального вагона, курил сигарету и наслаждался одиночеством. Под мерное постукивание колес так хорошо думается! Несешься себе сквозь мрак, словно звезда в космосе. А в конце пути всегда поджидает неизвестность.
В Париже было прохладно, моросил дождь; Эшенден был небрит, ему хотелось поскорей принять ванну и надеть чистое белье, но в настроении он находился превосходном. Прямо с вокзала он позвонил Р. и спросил, как здоровье тети Мэгги.
— Судя по тому, как быстро вы приехали, судьба тетушки вам далеко не безразлична. Отрадно, отрадно, — сказал Р., с трудом сдерживая смех. — К сожалению, тетушка очень плоха, но, я уверен, ей станет лучше, когда она увидит любимого племянника.
«Р. совершает типичную ошибку юмориста-любителя, который в отличие от юмориста-профессионала подолгу развивает шутку, — подумал Эшенден. — Шутник должен относиться к своей шутке так же небрежно, легкомысленно, как пчела к цветку. Пошутил и забыл. Разумеется, нет ничего дурного, если, подобно подлетающей к цветку пчеле, он немного пожужжит — надо же объявить туго соображающему миру, что готовится шутка». Впрочем, Эшенден в отличие от большинства профессиональных юмористов был к любительскому юмору терпим и поэтому ответил Р. в его же духе:
— Как вы думаете, — спросил он, — когда бы она могла принять меня? — На противоположном конце провода раздался приглушенный смех. Эшенден вздохнул.
— Полагаю, она захочет к вашему приходу привести себя в порядок, — сказал Р. — Вы же ее знаете, на людях она предпочитает быть в форме. Половина одиннадцатого вас устроит? Посидите у нее, а потом мы могли бы где-нибудь вместе перекусить, хорошо?
— Прекрасно. В половине одиннадцатого я буду в «Лотти».
Когда Эшенден, умытый и посвежевший, приехал в отель, в вестибюле его встретил адъютант и проводил наверх, в номер Р. Приоткрыв дверь, он пригласил Эшендена войти.
Стоя спиной к ярко пылающему камину, Р. что-то диктовал своему секретарю.
— Садитесь, — сказал он, продолжая диктовать. Эшенден осмотрелся. Гостиная была уютной и красиво обставленной. Букет роз на столе выдавал присутствие женщины. Массивный круглый стол был завален бумагами. За то время, что они с Эшенденом не виделись, Р. заметно постарел. Морщин на его худом, желтом лице прибавилось, редкие волосы поседели. Тяжелая работа сказывалась. Р. себя не щадил: каждое утро, что бы ни случалось, вставал ровно в семь и работал до глубокой ночи. Чистый, с иголочки китель дорогого сукна висел на нем, как на вешалке.
— На сегодня все, — сказал он секретарю. — Забирайте бумаги и садитесь за машинку. До обеда я все подпишу. — И, повернувшись к адъютанту, добавил: — Я занят, меня не беспокоить.
Секретарь, младший лейтенант лет тридцати, судя по всему, призванный в армию резервист, собрал бумаги к покинул комнату. Адъютант последовал за ним.
— Подождите за дверью, — сказал адъютанту Р. — Если понадобится, я вас вызову.
— Слушаюсь, сэр.
Когда они остались одни, Р. повернулся к Эшендену и с ласковым — для себя — видом спросил:
— Добрались благополучно?
— Да, сэр.
— Как вам мои апартаменты? — Р. окинул взглядом комнату. — Недурно, а? Надо же чем-то компенсировать трудности военного времени.
Беспечно болтая, Р. в то же время внимательно следил за Эшенденом. Всякий раз, когда он пристально вглядывался в собеседника своими бесцветными, близко посаженными глазами, создавалось впечатление, что он уставился прямо в мозг и очень разочарован тем, что там увидел. В редкие минуты благодушия он признавался, что, по его мнению, человечество делится на дураков и мошенников, и хотя человеку его профессии существенно усложняют жизнь и те и другие, в целом он отдавал предпочтение мошенникам: тут по крайней мере знаешь, с кем имеешь дело, и соответствующим образом ведешь себя. Р. был кадровым военным и долгое время служил в Индии и в Америке. Когда началась война, он находился на Ямайке, и какой-то крупный чин из министерства обороны, который когда-то имел с ним дело, вспомнил про него, перевел в Англию и определил в разведку, где благодаря своей исключительной сообразительности Р. вскоре обратил на себя внимание и получил значительное повышение. У Р., талантливого организатора, человека необыкновенно энергичного, на редкость решительного, предприимчивого и смелого, была, пожалуй, всего одна слабость. Дело в том, что он не имел опыта общения с представителями, а тем более с представительницами высших кругов, до перевода в Англию он общался лишь с офицерскими женами, а также с женами колониальных чиновников и коммерсантов. Когда же, оказавшись в начале войны в Лондоне, он подолгу службы столкнулся с блестящими, обворожительными светскими львицами, то совершенно потерял голову. В их обществе он робел, но его к ним тянуло, со временем он стал настоящим дамским угодником, и для Эшендена, который знал про Р. гораздо больше, чем тот подозревал, розы на столе говорили о многом.
Эшенден понимал, что Р. вызвал его не для того, чтобы беседовать о погоде и урожае, и ждал, когда тот перейдет к делу. Ждать пришлось недолго.
— В Женеве вы неплохо потрудились, — сказал Р.
— Спасибо на добром слове, сэр, — откликнулся Эшенден.
Внезапно с лица Р. исчезла улыбка. Тон сделался сухим и официальным. Светская беседа кончилась.
— У меня есть для вас одно дельце.
Эшенден ничего не ответил, но почувствовал, как у него тревожно засосало под ложечкой.
— Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Чандра Лал?
— Нет, сэр.
Полковник не смог скрыть легкого раздражения — его подчиненные обязаны были знать все.
— Где же в таком случае вы жили все эти годы?
— В Мейфэр, Честерфилд-стрит, дом 36, — отпарировал Эшенден.
На желтом лице Р. мелькнула улыбка. Он ценил иронию, и этот довольно меткий ответ пришелся ему по душе. Он подошел к массивному круглому столу и открыл лежавший на нем портфель. Из портфеля он вынул фотографию и вручил ее Эшендену.
— Вот взгляните.
Эшенден не разбирался в восточных лицах, и лицо на фотографии показалось ему ничем не отличающимся от сотен других индийских лиц. Человек на снимке был похож на какого-нибудь раджу, из тех, что периодически приезжают в Англию, и тогда иллюстрированные журналы публикуют их фотографии. Лицо одутловатое, смуглое; толстые губы, мясистый нос, волосы черные, густые и прямые; глаза огромные и водянистые — как у коровы. В европейской одежде ему явно было не по себе.
— А здесь он в национальном костюме, — сказал Р., передавая Эшендену другую фотографию.
В отличие от предыдущего, на этом снимке Лал был сфотографирован в полный рост и, по всей вероятности, на несколько лет раньше. Тут он был более худым, а его огромные серьезные глаза занимали пол-лица. Фотограф из Калькутты снял Лала на фоне аляповато нарисованных морских волн и раскидистой пальмы. Одной рукой Лал опирался на тяжелый резной стол, на котором в горшке стоял каучуконос. И все же в тюрбане и в длинном светлом кителе Чандра был не лишен определенного обаяния.