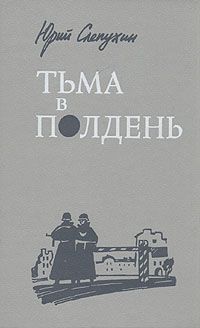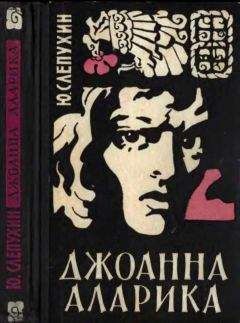Юрий Слепухин - Частный случай
В сущности, он уже и сейчас жил, как профессиональный литератор: мог встать, когда захочет, с утра сесть за стол и работать, сколько душе угодно. Приходилось время от времени отрываться от писания ради более прозаических занятий — размести снег, принести дров, — так это и Пастернаку, надо полагать, тоже приходилось делать, когда он жил зимой на своей переделкинской даче. И не такая уж большая разница в смысле доходов. Он как-то подсчитал: для того чтобы получить в гонорарах ту же сумму, что он сейчас получает как зарплату сторожа, ему надо было бы за этот же срок — с октября по май — опубликовать три печатных листа. Кто из начинающих может похвастать такой частотой публикаций? И это ведь надо регулярно печататься, из года в год.
Лыжники многие, наверное, смотрели на него как на придурка: молодой мужик, с университетским дипломом, а кантуется в сторожах, отбивает хлеб у какого-нибудь пенсионера. Про диплом, конечно, они могли и не знать (он только однажды проговорился, собеседник мог не обратить внимания), но тогда это выглядит еще дурее — не учится, не способствует подъему статистического уровня образованности в стране.
Этого же, главным образом, не могли простить ему и дракониды, — патологической тяги к черным работам и упорного нежелания «становиться человеком». Особенно страдала старшая; младшая тоже пыталась было выражать «фэ», особенно когда он ушел из трампарка, где чистил смотровые канавы, и устроился банщиком — выдавать веники; но младшая драконида чутко держала нос по ветру, и скоро она усекла, что в среде ее знакомых некоторые аномалии начинают входить в моду и приобретают даже характер некой особого рода престижности — с обратным, так сказать, знаком. Во всяком случае, на кочегаров и дворников с высшим гуманитарным образованием — а их встречалось все больше — теперь не смотрели, как на неудачников, в их своеобразной карьере видели уже позицию, принцип. Поэтому Изабелла Прохоровна — в просторечии Белка, пока не стала драконидой — в новой компании не упускала случая ввернуть, что муж-филолог работает банщиком; это сопровождалось обменом понимающими взглядами, пожиманием плеч и прикрыванием глаз: а что другое остается? То ли еще будет…
Но это все-таки было для понта, а в глубине души она оставалась слишком уж верной копией своей ненаглядной мамули, чтобы смириться с участью банщиковой жены. Сама она успешно двигала науку в своем НИИ, и — естественно — столь противоестественный симбиоз должен был рано или поздно полететь к черту. Хорошо, что это случилось, пока Алена еще ни фига не понимала.
В эту субботу, приехав в город, он сразу позвонил теще. Когда она сняла трубку, конспирации ради сказал басом:
— Изабеллу Прохоровну можно попросить?
— А кто ее спрашивает? — осведомилась, по своему обыкновению, старшая драконида.
— С работы, — соврал он, солидно кашлянув. — Из месткома!
Через полминуты трубку взяла младшая.
— Изабеллочка, лапа, — проверещал он тонким голосом, — ну нельзя же так, что же ты с нами делаешь, ведь договорились еще неделю назад!
— Что, что? — обалдело забормотала Изабеллочка. — Кто это, что вам надо?.. Это ты, Вадька? — догадалась она наконец. — Ну придурок. Чего тебе?
— Да ничего, так просто, дай, думаю, позвоню. Одну Алевтину Кронидовну услышать — уже именины сердца. Как Алена?
— Нормально.
— Может, встретились бы где-нибудь на нейтралке? Я ее уже год не видел.
— Перебьешься. Об этом раньше надо было думать, когда из дому уходил.
— Строго говоря, я не сам ведь ушел — вернее, уход был вынужденным, так как…
— Ладно, кончай! Алена здорова, видеться с ней тебе ни к чему, свидания вредно на нее действуют. Это все, что ты хотел знать?
— Более-менее.
— Тогда — чао.
— Чао, белла миа. Нижайший поклон Алевтине Драконидовне, она у тебя, вижу, все такая же бдительная…
Последнее слово он договорил уже в умолкнувшую трубку. Интересно, какой у них теперь аппарат — кнопочный небось, а то и электронный, с запоминающим устройством. Живы не будут, если не обзаведутся чем-то самым-самым. Радоваться надо, что вовремя смылся из семейки, только вот за Аленку обидно — вырастят ведь себе подобную, будет еще одна драконида. Одна из другой, как матрешки. Жуть!
Кого жалко по-настоящему, так это тестя, Прохора Восемнадцатого. Хороший, в сущности, мужик, воевать кончил в Берлине, потом еще в СВАГе несколько лет работал — помогал немцам строить демократию; если бы не сокращение Вооруженных Сил в шестьдесят втором, вышел бы в отставку с алыми лампасами. Старшая драконида до сих пор этого ему простить не может — что так и не довелось стать генеральшей. Непонятно получается: боевой офицер, на фронте наверняка не трусил, а тут позволил бабью себя зажрать. Уже после развода был случай — встретились на Невском, зашли, посидели, а на прощанье экс-полковник и говорит: «Только ты, знаешь, если будешь нашим звонить, не проговорись, что мы с тобой общались, а то ведь они, стервы, житья мне не дадут… «
Повесив трубку, Вадим постоял еще, разглядывая замызганные, исчирканные номерами и инициалами обои вокруг старого настенного аппарата, потом снова нерешительно потянулся к трубке. Маргошка ответила сразу, хотя, судя по голосу, еще не совсем проснулась.
— Охренел ты, что ли, в такую рань звонить, — сказала она. — Ты бы уж среди ночи!
— Какая рань, окстись, первый час уже.
— Hy-y? — удивилась Маргошка. — Я думала — часов девять.
— Гудела небось вчера.
— Нет, что ты! Настоящего гудежа давно уже не было. Так, зашли ребята, посидели, музыку послушали. Алик несколько хороших кассет привез из-за бугра, зашел бы как-нибудь. Не оброс еще шерстью в своем лесу?
— Кое-где уже появляется. А кто был?
— Да те же — Гена, Алик, Лева со своей игуаной…
— Как у него с пьесой?
— К Товстоногову хочет нести. Приду, говорит, к нему домой и заставлю прочитать при мне, раз через завлита не прорваться.
— Так он и станет читать.
— Не станет, ясное дело! Я Левке так и сказала: дебил ты, говорю, Гога тебя с лестницы спустит. Но ты знаешь, что самое интересное? Я ведь, по совести ежели сказать, не уверена, что он не добьется своего.
— Чтобы поставили?
— Нет, ну это отпадает, я говорю — чтобы припереться. Ты понимаешь, вот если есть на свете законченное воплощение нахальства, так это наш Лева Шуйский.
— Это он могёт. Маргошка, почитать ничего нет?
— Потрясный есть роман — «Что делать? «, Чернышевского, Н. Г.
— Кончай, я серьезно.
— А если серьезно, то пока ничего. Глухо с этим делом. Если что будет, я придержу на недельку. Ты ведь каждую субботу и воскресенье дома? Я позвоню, если что.
— О'кей. Слушай, а вообще надо бы собраться, погудеть, а то я и в самом деле скоро забурею. Этак ведь отловят ненароком — и к Филатову.
— Запросто, Вадик, и это еще не худший вариант, А насчет погудеть, зависнуть — тут мы, как пионерская организация, всегда готовы. Конкретно, через месяц у Ленки день рождения, там и соберемся. Фазер энд мазер наверняка ей из Африки энное количество бонов подкинут, в «Альбатрос» дорогу она знает, так что насчет пая можешь не ломать голову — Ленку эти мелочи жизни не волнуют.
— Вроде неловко как-то…
— Знаешь, Вадик, неловко колготки через голову надевать. В общем, я тебя буду держать в курсе!
— Ладно, чао…
Глава 2
Он стоял у огромного, во всю стену, окна и смотрел вниз, на площадь, где громадной каруселью вращался против часовой стрелки поток автомобилей, кажущихся игрушечными с высоты двадцать шестого этажа. Цвета внутри потока калейдоскопически менялись — одни машины втягивало в это кругообразное движение, другие отрывались от него, как бы выброшенные его центробежной силой в воронки звездообразно сходящихся улиц. В центре площади, вокруг памятника, нетронуто белел выпавший ночью снежок, но на проезжей часта его не было и в помине, там глянцево лоснился накатанный шинами асфальт. «Тоже мне зима, — подумал он, — вот у нас там… — И тут же споткнулся: — Почему „у нас“? Все-таки „у них“, наверное, это будет точнее, а впрочем, черт его знает, поди разберись».
Вспомнив о том, что через неделю он будет там, Векслер ощутил, как на миг тревожно сжалось сердце. Генетическая память, подумал он, усмехнувшись. Сейчас-то уж никакого риска, а все равно — нет-нет, да и ёкнет. В ту, первую, поездку, когда проходил таможенный досмотр в Шереметьево-2, он действительно струхнул. Казалось бы, причин для боязни не было — ездили же другие! — но внешнее спокойствие далось непросто. Нет, он не спасовал, даже позволил себе заговорить по-русски с таможенником, обратившимся к нему на своем школьном немецком; но ощущение осталось какое-то… унизительное.
Пожалуй, не только потому, что поддался — хотя и мимолетно — чувству страха. Страх, в конце концов, чувство естественное, его не знают только кретины. Любой солдат, любой разведчик в определенные моменты испытывает страх, только одним удается его преодолеть, а другим — нет; в этом и заключается сущность героизма. Нет, тогда не страх был, другое. Или — не только. Будь это любая другая страна… Пришлось бы, скажем, везти наркоту откуда-нибудь из Гонконга — вот там действительно опасно, тамошней полиции лучше в руки не попадаться, но там страх наверняка был бы другой — азартный, что ли, взбадривающий, без этой примеси чего-то унижающего. А в Москве было вот это нехорошее чувство — как будто нашкодил, напакостил. Мимолетное, но было. Шкодит и при этом боится, чтобы за руку не схватили. А кому шкодит, если разобраться? Не соотечественникам же, простым, рядовым людям, тем самым, что там, в Шереметьеве, грузили багаж, ведь ради них же и стараешься. А если говорить о КГБ, то там уж, пардон, игра на равных: кто кого. Не совсем, положим, на равных, если один бросаешь вызов такому солидному аппарату. Какой аппарат при этом стоит за твоей собственной спиной, там уже роли не играет, эти, посылая тебя туда, все-таки остаются здесь, ничем не рискуя…