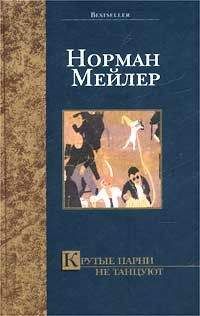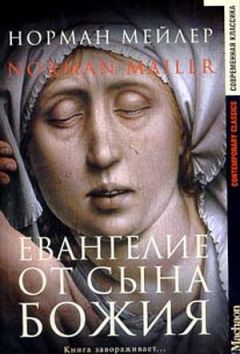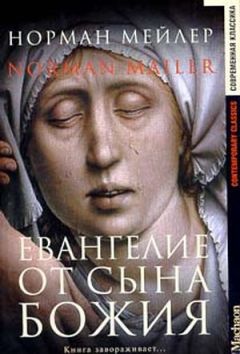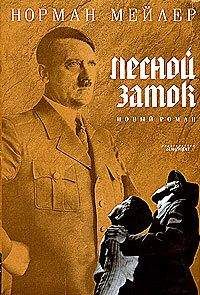Норман Мейлер - Призрак Проститутки
Видел я ее и когда она была столь же мрачной, как буря, что обрушивается в марте на остров. В марте поля серо-коричневые, а наполовину сошедший снег по утрам весь в грязных пятнах. В марте дни не золотые, а серые, и скалы редко блестят под солнцем. А пропасти выглядят столь же мрачно, как бесконечная гранитная стена. В конце зимы Маунт-Дезерт похож на сжатый кулак скряги — унылая скорлупа неба переходит в свинцовое море. Уныние опускается на холмы. Когда уныние нападает на мою жену, в моей душе гаснут все краски и кожа у нее уже не светится — она покрыта бледностью. За исключением снежных дней, когда огни острова пляшут на покрытых морозным инеем скалах, словно огоньки свечей на высоком белом торте, я не люблю жить поздней зимой на Маунт-Дезерте. Пасмурное небо давит на нас, и мы порой целую неделю не разговариваем. Такое одиночество сродни отчаянию выпивохи, любящего компанию и вот уже несколько дней не наполнявшего стакан. Тогда в Крепость являются призраки, и наше милое жилище гостеприимно открывает им двери.
Дом стоит одиноко на островке величиной меньше десяти акров, расположенном совсем рядом с западным побережьем Маунт-Дезерта, буквально брось камень — долетит. Называется островок Доун, по имени моего прапрадеда и, как я подозреваю, притягивает к себе визитеров. Хотя, по мнению моей жены, острова больше пригодны для посещения невидимых духов, чем таких своеобразных явлений, как призраки, наш остров, я считаю, нарушает это правило.
На острове Бартлетта, что немного севернее нас, есть чуть ли не официально зарегистрированный призрак Снеговика Дайера, придурковатого старого рыбака. Он умер на острове Бартлетта в 1870 году, в доме своей сестры, старой девы. Однажды в молодости он обменял пять омаров на томик греческой классики, принадлежавший гарвардскому профессору. Произведение называлось «Царь Эдип» и было снабжено подстрочным переводом. Старика рыбака, Снеговика Дайера, так заинтересовали слова Софокла, данные в буквальном переводе, что он попытался читать греческий оригинал. Не зная, как произносятся буквы, он тем не менее изобрел свой звук для каждой из них. Чем старше он становился, тем больше смелел и порой, бродя по скалам, громко декламировал на этом своем уникальном языке. Говорят, если провести ночь в доме его покойной сестры, можно услышать греческий текст в исполнении Снеговика Дайера, и звучать он будет не менее варварски, чем шлепки и бормоты нашей непогоды. Бингем Бейкер, служащий корпорации из Филадельфии, живет теперь с семьей в этом доме и, похоже, процветает от присутствия привидения — во всяком случае, все Бейкеры выглядят такими румяными в церкви. Не знаю, слышат ли они завывания зимы в голосе Снеговика Дайера.
Призрак старого Снеговика, возможно, живет на острове Бартлетта, но у нас на Доуне есть свой, и куда менее приятный. Это морской капитан по имени Огастас Фарр, которому два с половиной века тому назад принадлежала наша земля. О его повадках рассказано в старом судовом журнале, который я нашел в библиотеке Бар-Харбора, и говорится там об одном путешествии, «во время коего Фарр занимался пиратствованием» и захватил французский фрегат в Карибском море, снял с него груз кубинского сахара и высадил команду в открытой шлюпке в море (за исключением тех, кто присоединился к нему), а капитана обезглавил, и тот умер нагишом, потому как Фарр присвоил себе его форму. И такой этот Огастас был нахальный, что через много лет велел похоронить себя на своем северном острове — ныне нашем острове — в парадной форме француза.
Я никогда не видел Огастаса Фарра, но голос его, пожалуй, слышал. Однажды ночью — не так давно — я был один в Крепости и, внезапно проснувшись, обнаружил, что разговариваю со стеной.
— Нет, уходи! — решительно заявил я. — Не знаю, можешь ли ты покаяться. Да я и не верю тебе.
Стоит мне вспомнить этот сон — если то был сон, — и меня пробирает такая дрожь, какой обычно не бывает. Спина у меня становится скользкой, точно на мне пиджак из кожи ящериц. И я снова слышу свой голос. И говорю я, обращаясь не к штукатурке, а к комнате, которую как бы вижу по другую сторону стены. Там я вижу нечто в разодранной форме, сидящее в дубовом, сильно поцарапанном капитанском кресле. В носу у меня гнилостный запах смерти. А на отмелях — так мне слышится в окно, посмотреть же я не смею — кипит море. Как же может оно кипеть, когда сейчас отлив? Я все еще во сне, но вижу, как мышь пробегает по полу, и чувствую присутствие призрака Огастаса Фарра по другую сторону стены. Волосы дыбом встают у меня на затылке, когда он спускается по лестнице в погреб. Я слышу, как он идет вниз, в Бункер.
Под погребом у нас есть небольшое помещение. Первоначально это была землянка, вырытая моим отцом после Второй мировой войны, когда Крепость еще принадлежала ему. Он гордился тем, что первым из американцев учел последствия Хиросимы. «У каждого должно быть такое место, где он может укрыться от всего», — говорил мой отец, Кэл Хаббард, за два года до того, как продал наше владение своему дальнему родственнику, отцу Киттредж Родмену Ноулзу Гардинеру, который, в свою очередь, подарил его Киттредж, когда она в первый раз вышла замуж. Однако пока дом принадлежал Родмену Гардинеру, он решил переплюнуть моего отца и, насколько я знаю, был первым в этой части Мэна, у кого появилось блочное убежище на случай выпадения атомных осадков, полностью оборудованное, с кухней, вентиляцией, запасом консервов и раскладушек, куда вели два коридора, проложенных под прямым углом друг к другу. Какое имеет отношение угол в девяносто градусов к предотвращению действия ядерной радиации, я сказать не могу, но у первых убежищ были любопытные формы. Так это убежище и сохранилось — к смущению всей семьи. В этой части Мэна не принято так оберегать свою жизнь.
Я презирал убежище. И не мешал ему рассыпаться. Старые консервные банки с тунцом почти насквозь проржавели, а пенопласт матрацев для раскладушек превратился в труху. Каменный пол покрывает слой слизи. Электрические лампочки, давно перегоревшие, припаялись к патронам.
Да не создаст это неверное представление о Бункере. Пол Бункера — как неизбежно стали называть убежище от атомных осадков — на десять футов ниже основного погреба, представляющего собой большое чистое каменное помещение. Первый и второй этажи погреба, а также вся мансарда поддерживаются в относительном порядке женщиной из Мэна, которая, если позволяет погода, приходит каждый день, когда мы там, и раз в неделю, когда нас нет. Только в Бункере никто не убирает. И виноват в этом я. Я не могу допустить, чтобы кто-то туда ходил. Когда я открываю дверь, снизу поднимается запах сырости и безумия. Помещения под погребами часто страдают сыростью, но запах безумия — нечто совсем другое.
В ту ночь, когда, проснувшись, я общался с Огастасом Фарром, в ту ночь, когда я убедился, что не сплю, и услышал, что он спускается по лестнице, я вылез из постели и попытался последовать за ним. Это было не столько проявлением храбрости, сколько следствием бесконечных упражнений в особом умении превращать свои худшие опасения в уверенность. Отец сказал мне однажды, когда я был юношей: «Если тебе стало страшно — не медли. Окунайся с головой в беду, если твое дело правое». Это был один из приемов в умении мобилизовать свое мужество, которые мне пришлось значительно усовершенствовать в бюрократических войнах, когда козырной картой было терпение, но я знал: когда страх становится парализующим, надо заставить себя сделать ход, иначе потом придется расплачиваться душой. Если хочешь по-честному встретиться с призраком, ясное дело, следуй за ним.
Я и попытался. Ноги у меня были ледяные, как у трупа, когда я стал спускаться по лестнице. Это был уже не сон. Впереди меня яростно хлопнула дверь. И мне показалось, что я услышал: «Я не вернусь, пока этого не сделаю». К тому времени когда я сошел в первый погреб, решимость моя иссякла. Внизу, у входа в Бункер, меня, казалось, поджидало нечто не менее злокозненное, чем непонятная морская тварь. Теперь у меня уже не хватало мужества на то, чтобы заставить ноги преодолеть последние десять ступеней. Я стоял неподвижно, как если бы мог хоть в какой-то мере спасти свою честь, не побежал опрометью, а остановился, чтобы принять на себя гнев непонятно чего. Не скрою — скажу: я прожил несколько мгновений в нерасторжимых объятиях той злой силы. Потом Огастас — а я полагаю, это был Огастас — отступил в глубины Бункера, и я почувствовал, что могу уйти. Я вернулся в постель. И спал я, словно наглотался сильнейших снотворных, — наверное, со всеми так бывает после встречи с чем-то столь неприятным. С тех пор я ни разу не спускался в Бункер и Огастас не приходил ко мне.
Тем не менее атмосфера в Крепости изменилась после того посещения. Все стало биться с поразительной быстротой, и я сам видел, как подносы слетали со столов. Правда, это не выглядит столь трагично, как в фильмах. Скорее кажется озорством. Ты не можешь с уверенностью сказать, что не задел предмета рукавом или что старый пол не перекошен. Все это могло случиться по естественным причинам — или почти естественным. Разбираться в подобных феноменах — все равно что пытаться установить факты с законченным вруном. Одно превращается в другое. Ветер за нашими окнами, казалось, быстрее, чем раньше, выказывал свою сущность — был зловещим или благим, нежным или захватывающим дух.