Николай Шпанов - Лед и фраки
Вдруг монокль выпятился и, сверкнув в воздухе, повис на черном шнурке. Литке поднялся, не сгибая спины, и деревянным движением потряс руку подплывшего к нему розового толстяка. В следующую минуту Литке опасливо оглянулся по сторонам, нет ли знакомых. С большого живота советника Риппсгейма ярко кричали широкие серые клетки безвкусного полудорожного костюма. Эти нелепые серые клетки советника так шокировали Литке, что он даже не обратил внимания на седого маленького человечка, присевшего к его столику вместе с толстяком. Маленький незнакомец застенчиво ежился на стуле, старательно пряча на коленях руки. Рукава его визитки заметно лоснились. Сухонькую, по-детски тонкую ручку обрамляли манжеты далеко не первой свежести. Серый тон манжет незаметно переходил в сморщенную жилистую синеву старческой кожи. Человек сосредоточенно мигал красными припухлыми веками, внимательно глядя в лицо Риппс- гейму. Все заостренное личико, с тонким, покрытым сетью ярких синих жилок носиком, выражало единый сосредоточенный восторг и внимание. Под незримым давлением этого гипнотизирующего восторга Риппсгейм обратил широкое массивное красное лицо к старичку. Держа двумя розовыми сардельками пальцев длинную светлую сигару, советник почти коснулся краешком пепла вытянувшегося носика старичка.
— Господин Литке, я забыл представить нашего консультанта по русскому вопросу генерал-лейтенанта фон Маневич.
Маневич суетливо расшаркался. Литке, не вставая, протянул было деревянным движением руку. Раздумав, поднял ее к голове и провел тонкими пальцами по гладко выбритому черепу. Рука Маневича повисла в воздухе. Он неловко поклонился и сел. Литке пальцем подозвал кельнера.
— Обер, сюда, — ткнул Литке в сторону старичка, — лимонный грог.
— А мне чашку кофе, — заявил советник.
Советник пил кофе и дымил крепкой гамбургской сигарой. Литке, медленно, смакуя, пил маленькими рюмками джинджер. В промежутках они перебрасывались короткими фразами без начала и без конца, состоявшими из слов, никакого отношения не имеющих ни к тому месту, где они сидели, ни к окружающей их обстановке. На Маневича они не обращали внимания. Только, когда он допивал очередной бокал лимонного грога, самого дешевого напитка из имевшихся в кафе, Литке подзывал кельнера и, показав подбородком, говорил:
— Обер, еще один грог.
Старичок пил и слушал, что говорили. По-видимому, внутренний смысл отрывочных фраз был ему понятен. Несколько раз он раздвигал свои сморщенные синие губки для реплики, но на нем неподвижно останавливался холодный, прижимающий к стулу взгляд серых острых глаз Литке. Старичок беспокойно моргал красными веками, прятал под стол ручки и растягивал рот в заискивающую улыбку.
Риппсгейм, докуривая вторую сигару, наставительно тянул:
— Правление опять высказало некоторые сомнения в том, что огромные средства, вложенные в это предприятие, будут оправданы. Ведь по существу у нас нет никаких оснований приходить в восторг. Полтора миллиона марок, поставленных на карту, это чего-нибудь да стоит.
Литке едва заметно приподнял плечи. Советник успокоительно обратил к нему розовую подушку ладони.
— О, нет никаких сомнений в добросовестности всей организации. Для этого мы с вами слишком немцы. Но ведь если мы и на этот раз не укрепим за собою первенства в создании трансарктической воздушной магистрали, это дело совершенно неизбежно должно будет попасть в руки американцев. Мы никому не хотим втирать очки, и каждый ребенок, конечно, понимает, что мы сами в состоянии поднять это дело только благодаря французским кредитам. Но в том-то и дело, что наши кредиторы на этот раз только до тех пор склонны благонамеренно относиться к этому делу, пока им не покажется, что мы не можем ничего сделать. Им слишком важно получить контроль над магистралью, проходящей вдоль всего сибирского берега. Вы думаете, зря большевики так стараются скомпрометировать все предприятие более чем откровенными догадками своей прессы об истинных намерениях вашей экспедиции? Да, они даже соглашаются дать в ее состав своих
ученых. Но это только маска, китайская церемония, мой друг. Ах, вы еще не знаете большевиков…
Маневич дернулся на своем месте.
— Да, вы не знаете, мой друг, большевиков, — продолжал Риппсгейм. — Ведь доказано, что Ленин — монгол. Но это не умаляет его качеств, и с изумительной одаренностью этого необычайного черепа никто не собирается спорить. Но тем хуже для нас. Из-за этого лба на нас потекли целые потоки гениальных утопий. Вы знаете, что проповедовал Ленин, что по существу представляют собою все его мысли? Это не что иное, как необычайно сконденсированная, доведенная до последней степени остроты монгольская мудрость. Ее, эту мудрость, сотни и тысячи лет копили у себя в Китае кули. Вы знаете, что такое кули, это китайцы. Совсем особая порода китайцев. Их никогда не считали людьми ни мы — европейцы, ни даже сами китайцы. Едва ли кто-нибудь даже считался с их способностью мыслить. Все думали обычно, что кули может испытывать только элементарные чувства — боль, страх, голод. Главным образом, конечно, голод.
— И вот, представьте себе, после нескольких столетий, а, может быть, и тысячелетий подобного заблуждения оказывается вдруг, что кули мыслили. Да, да — они мыслили. И все эти мысли, копошившиеся в головах заезженных кули, всегда хотевших есть, приняли совершенно своеобразное направление. Они, по-видимому, думали больше всего о том, как бы сделать так, чтобы им не хотелось есть. Китайские государственные мужи, а, впрочем, не одни только китайские, но и наши лучшие мыслители, предлагают для этого наиболее рациональный, по их мнению, рецепт: кули нужно отучить есть. Тогда они будут довольны своим положением и не будут расходовать драгоценных калорий на размышления о том, как уничтожить в себе чувство голода. Но этот рецепт, по-видимому, не сходится с теми мыслями, что копились из века в век в головах кули. Они не могли выработать никакой теории на этот счет, но пришли все же к совершенно определенному выводу: чтобы не чувствовать голода, нужно есть досыта. Совершенно ясно, что столь противоречивые теории не могут ужиться рядом. Здесь в дело вмешались социал-демократы — конечно, не такие, как у нас, а совершенно особенные — китайские социал-демократы. Эти мужи мудрости заявили, что хозяева неправы — кули нужно кушать. Но кули, по их мнению, тоже неправы — им нужно кушать, но вовсе не досыта, как они думают. Если кули будут есть досыта, то они не будут работать, а если не станут работать, тогда окажутся голодными и кули и хозяева. Поэтому они предложили хозяевам давать кули немного больше кушать, а кули предложили больше работать, чтобы пополнить хозяевам повышенный расход на их пропитание и не довести хозяев до разорения — иначе некому будет давать кули кушать.
— На мой взгляд, такое решение было правильным. Здесь я вполне согласен с китайскими социал-демократами. Но вот, представьте себе, вековые размышления кули, никем никогда не записанные и никем как следует не проанализированные, попав в мозговую лабораторию под выпуклым лбом Ленина, претворились в какую-то третью теорию, явно неприемлемую для хозяев и довольно неясно осознанную самими кули, хотя в корне эта теория и есть их собственная, так сказать, кулиная теория. Ленин предложил: пусть кули едят досыта и съедают все, что они произведут. А хозяева, спрашиваете вы? А хозяевам Ленин предложил работать так же, как работают кули, и производить столько, сколько им нужно съесть, чтобы быть сытыми. Уже сама по себе эта мысль представляется нам абсурдом — не может и не должно быть такого положения, когда все, наевшись, скажут: мы больше не хотим работать. И тогда всем придется голодать. В Китае голодали только кули, а тут будут голодать все. Это хуже.
Это грубейшая логическая ошибка. Ленин сделал ее из-за предпосылки: кули, то есть те, кто всегда работали, следовательно, умеют работать, должны быть хозяевами, а хозяева, которые никогда не работали и не могут работать, пусть будут кули. Это явная ошибка. Такого положения, когда хозяев много, а кули мало — быть не может. Это политически немыслимо. Можете вы себе представить американский небоскреб, широкий у земли и упирающийся в облака золоченым шпицем башни? Можете. Такой небоскреб стоит прочно на широком фундаменте и увенчан на своей вершине самой красивой частью здания — золотым шпилем. Но можете ли вы себе представить, что небоскреб стоит шпилем вниз, опершись на изящное золотое острие, а широкое основание его теряется в облаках? Чепуха. Я говорю вам — это чепуха. Такой дом не смог бы простоять и одного дня.
Советник сердито пыхнул сигарой и пустил струю синего дыма в лицо Маневича. Маневич чихнул и засмеялся, дробно шлепая друг о друга сухими ладошками. Но Литке сердито вскинул монокль в глаз и холодно глянул на старичка.


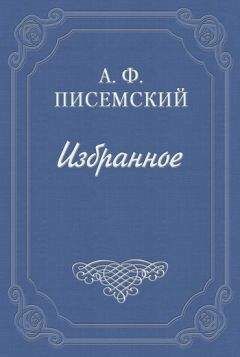

![Сергей Бетев - Без права на поражение [сборник]](/uploads/posts/books/242828/242828.jpg)