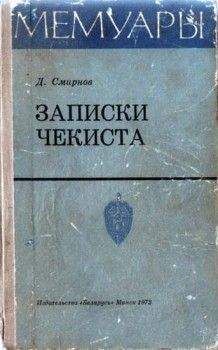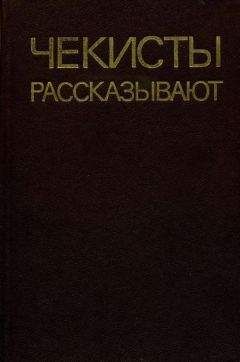Виктор Логунов - Страницы незримых поединков
Не прошло и получаса, как зазвенели гитары, затрепетала старинная таборная песня, и началась пляска, как степной пожар. Синие, желтые, красные, зеленые юбки запылали огненными цветами. Словно в штормовом ветре заметались костры, брызгами искр освещая и дрожащие плечи девушек, и черные бороды цыган, и пулеметные ленты на матросских бушлатах!
Но вот занялась заря. Потухли огни, и снова матросы покатили орудийные колеса, вязнущие в изрытой земле.
* * *Наконец мы подошли к Царицыну. Опустели улицы города, зияли разбитые окна домов. К окраинам спешили вооруженные рабочие отряды. По ночам вспыхивали артиллерийские взрывы.
Часть наших матросов была влита в Волжско-Каспийскую военную флотилию, а часть — в пехоту 10-й армии, защищавших Царицын.
В один из вечеров наш десантный отряд пробирался к Сарепте. Буксирный пароход с трехдюймовками на баке и юте держался низкого берега. Тихо шлепали плицы колес по штилевой воде. Вот и Сарепта. Почти все жители покинули ее. Быстро спрыгнули мы с судна и залегли в канавах и брошенных окопах. Потянулись тревожные часы ожидания.
Далеко на туманном горизонте забрезжила розовая заря. У фиолетовой опушки леса показались темные силуэты всадников — приближались казачьи сотни. Вот они уже близко. Без выстрела мы подпускаем их к себе. Минута — и затарахтели наши пулеметы, пошли первые цепи моряков, лязгая затворами винтовок. Побежал и я, сжимая гранату в потной ладони…
Черная земля вспыхивала как смерч от глухих взрывов, крики «ура» сплетались со стонами. Вот уже все моряки ощетинились штыками — это двинулась в контратаку несокрушимая русская «черная смерть» в бушлатах и бескозырках…
Еще минута — и мы ворвались в рев и гул пылающего боя…
1 июля 1919 года в Царицын вошли первые деникинские казачьи сотни.
В этот день катер, на котором мы переплывали Волгу, был подбит артиллерийским снарядом. Меня, тяжело контуженного, выбросило на берег. Почти двое суток я лежал без движения на песке в двух метрах от воды. Солнце обжигало голову, нестерпимая жажда мучила меня, но я не мог пошевелить даже пальцем. За это время вся жизнь пронеслась предо мною… Я примирился со смертью, и только мысль, что меня могут найти белогвардейцы, пугала беспредельно.
Ночью я услышал шаги. «Вот и конец», — решил я. Шаги приближались.
— Стоп, братва! — вдруг послышался хриплый голос — Здесь еще лежит кто-то. Э, да это «братишка» какой-то. Мертвый.
Чего я только не делал в этот момент: моргал затекшими глазами, хрипел…
— Ребята! Да ведь он живой! — услышал я как в полусне.
…Не помню, когда я очнулся. Меня тащил на плече матрос. Их было пять человек, они еле брели, часто присаживаясь на землю.
Тащили меня посменно. У одного из них был оторван рукав и у локтя синела татуировка «Любка-сука». Когда я висел мешком на его плече, перед моими глазами маячила эта надпись — видно, злополучная «Любка» причинила моему «братишке» немало горя.
Не помню, сколько времени мы тащились по заросшему берегу Волги. Пуще всего боялись мы попасть в руки белых…
Ночью мы услышали крик:
— Стой, кто идет?
Бессильные, прижались мы к земле.
— Э, да это наша братва! — успокоенно проговорил кто-то.
В лазарете я лежал вместе с моим спасителем. Его звали Васей. Стоит ли говорить, как дорог был мне этот голубоглазый кудрявый черноморец.
Здесь мне хочется забежать вперед.
В 1931 году мне пришлось быть в Севастополе. Оранжевое солнце горело в васильковом небе. Изумрудное море дремало в каменных берегах.
Но город был неспокоен. У Приморского бульвара шла траурная процессия. На грузовиках лежали гробы с матросскими бескозырками. Народ безмолвно шел за ними. Во время маневров затонуло судно, и вот теперь хоронят погибших матросов. Пошел и я на кладбище. Оно раскинулось среди кипарисов и пирамидальных тополей на высокой горе. Товарищи рыли могилы. Около меня пожилой военный откидывал землю лопатой. Рукава его фланелевки были засучены, и вдруг у его локтя я увидел знакомую татуировку: «Любка-сука»!
Трудно описать нашу задушевную встречу! Ведь это был мой царицынский спаситель!
После излечения Богородский работает в губчека в Оренбурге. Отсюда через год его отзывают в Москву. Несколько месяцев ходит он на службу в знакомый дом на Лубянке. Но все больше беспокоят его старые раны и контузии, он чувствует, что ему уже труднее дается не знающая ограничений во времени чекистская служба. А работать вполсилы, давать себе поблажки он не умел. К тому уже его неудержимо влечет к себе живопись, хочется воплотить в жизнь все то, что накопилось в многочисленных набросках и эскизах.
Богородский вспоминал:
Спустя несколько месяцев меня потянуло на родину. Мне казалось, что настало время заняться живописью, и я решил уйти из ВЧК. Мое заявление попало к Ф. Э. Дзержинскому. Я был вызван к нему, и вот я увидел этого изумительного человека, память о котором навсегда осталась в моем сердце.
Волнуясь, я вошел в кабинет. Дзержинский сидел за большим столом, заваленным книгами и рукописями. Он поднял голову и внимательно окинул меня пристальным взглядом своих светлых серо-зеленых глаз.
— Хочешь уходить из ВЧК? — вдруг спросил он меня.
— Так точно, товарищ Дзержинский. Хочу учиться, чтоб быть художником.
— Художником? — переспросил Дзержинский.
Я объяснил, что в свое время увлекался живописью и что теперь, по-моему, настало время, когда можно переключиться на культурную работу.
Никогда не забуду, как он разъяснял мне, что работа чекиста именно и является борьбой за новую, социалистическую культуру, только своим методом…
Я уходил от Дзержинского счастливым — на моем заявлении его рукой было написано, что я откомандирован в распоряжение ЦК РКП(б).
Через несколько дней я был принят наркомом просвещения А. В. Луначарским. Наркомат уже переехал с Крымской площади на Сретенский бульвар. Луначарский занимал большой кабинет, покрытый пестрым ковром. На стене висела картина художника Пчелина, изображающая А. В. Луначарского с секретарями. Это довольно большое полотно было, пожалуй, лучшее, написанное в годы революции Пчелиным. В кабинете у окна сидела секретарь-машинистка.
Анатолий Васильевич встретил меня очень любезно. Он, оказывается, слыхал обо мне, где-то читал мои стихи и знал, что я уже выставлялся на выставках. После оживленной беседы он встал и, шагая по ковру, стал диктовать машинистке:
«Осведомленный о командировке Центральным Комитетом РКП(б) на работу в Вашей губернии т. Ф. С. Богородского, с своей стороны считал бы чрезвычайно желательным назначение его на пост заведующего Художественным отделом.
А. Луначарский (№ 168, 24 ян. 1920 г.)».Перед отъездом в Н. Новгород я как-то зашел в кафе «Домино». Обе комнаты были заполнены публикой, распивающей суррогатный кофе с сахарином и поедающей знаменитые «бутерброды» — пластинки вареного картофеля с положенной на них морковкой.
Уж не помню, как я очутился на эстраде и стал читать свои стихи. Возможно, мой друг Каменский, так сказать, «подначил» меня на этот шаг. Мои стихи заканчивались так:
Фуражка вломана в затылок
И шпалер всунут в брюки клеш.
Какая дьявольская сила
В девизе пламенном «Даешь!»
Публика бурно реагировала на мое выступление. Ей, видимо, понравилась эта необыкновенная ситуация — вооруженный матрос читает стихи!
Совершенно неожиданно на эстраду вскочил С. Есенин. Он поднял руку, чтоб успокоить публику. Аплодисменты смолкли, и Есенин сказал:
— Товарищи! Да разве вы не понимаете, что сейчас выступал не просто матрос, а профессиональный поэт в форме матроса? А стихи его очень шумные, но плохие!
Среди переполоха и криков на эстраде вдруг появился человек в кожаной куртке, со всклокоченными черными волосами и бородой. Энергично жестикулируя, он кричал, что Есенин — маменькин сынок, что он не терпит чужого успеха и что только он, Блюмкин, знает секреты настоящей поэзии, бурной, как шквал.
Я не помню, что еще орал исступленным голосом Блюмкин, но был поражен, когда соседи по столу сообщили мне, что это тот самый Блюмкин, который убил Мирбаха, и что он пишет «анархистские» стихи.
Поздно вечером я вернулся в Лоскутную гостиницу у Охотного ряда, где обитали моряки. Номер был нетоплен, электричество не горело, в желудке было пусто, но я лег спать в прекрасном настроении: ведь в ближайшие дни я уезжал на родину, чтоб стать художником.
* * *Я опять в своем милом Нижнем! С Канавинского вокзала ехал я на извозчике. Лошадка весело бежала по заснеженному пути через широкую Оку. В розовом тумане виднелась гора с кремлевскими стенами. Тишина окутала белую реку. Проехали засугробленный Нижний базар. Медленно поднялись по Зеленскому съезду на Благовещенскую площадь. Промелькнула мужская гимназия, и усталая лошадь остановилась на Тихоновской улице у знакомого желтого забора. Заскрипели ворота, и взору открылся двухэтажный деревянный домик, в котором прозвенело мое детство…