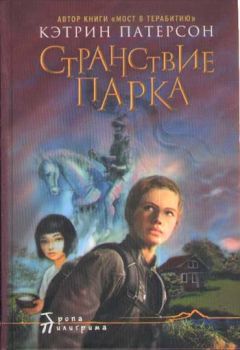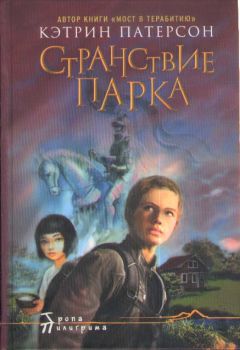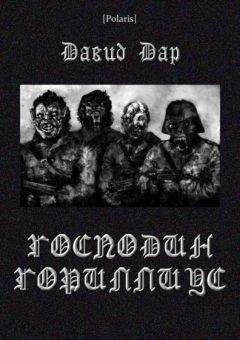Виктор Михайлов - Бумеранг не возвращается
Когда Машенька окинула взглядом стены комнаты, солнечного лучика не было, зайчик ушел, лишь ненадолго задержавшись на подоконнике, и в комнате стало без него сумрачно и грустно,
Она облизнула языком пересохшие губы и попросила:
— Пить…
Патрик налил ей бокал сидра, присев на край дивана, поддерживая ее, точно больную, помог напиться. Она внимательно посмотрела на него и уловила в его лице какие-то новые, раньше неизвестные ей черты.
От холодного сидра Машеньку охватил озноб. Заметив ее состояние, Патрик открыл трубу, затем дверку печи, где на колосниках лежали приготовленные сосновые поленья, и чиркнул спичкой у берестяной растопки. Густо почадив, береста вспыхнула, весело затрещала, и пламя охватило тонко колотые дрова. Стало уютнее. Запахло душистым смоляным дымком.
Машенька испытывала слабость, точно после тяжелой и изнурительной болезни. Хотелось вот так лежать, не думая ни о чем, отдаваясь приятной истоме. Но, против ее желания, мысли пришли и все настойчивее требовали ответа. Она вспомнила записку отца и поняла, что разговор с отцом этим вечером будет труднее, нежели был бы вчера. Мать умерла, когда Машеньке было девять лет. Воспоминания, связанные с матерью, вызывали у нее физическое ощущение тепла. Вот и сейчас, вспомнив мать, она молча устремила пристальный, немигающий взгляд на дрожащий огонь печи. Молчал и Патрик, оберегая эту чуткую, напряженную тишину.
Глядя на огонь, Машенька думала: сосна, сгорая, отдает тепло, полученное от солнца. А я тепло свое отдам тебе, мой дорогой, мой любимый. С трудом оторвав взгляд от огня, она рассматривала Патрика.
В комнате стемнело. В отливающих бронзой, вьющихся волосах Патрика играли отблески пламени. Машенька мысленно возвращается к самой себе, но не испытывает сожаления. Пора ее юности миновала; иные пути — иные дороги. Она не испытывает страха за свое будущее, и только предстоящий разговор с отцом трогал холодком сердце.
С отцом она привыкла делиться всем, и хорошим и дурным. Андрею Дмитриевичу всегда удавалось каким-то безошибочным чутьем оказываться на уровне ее самых разнообразных интересов. Она могла поделиться с отцом как с лучшим другом сокровенными мыслями, не боясь остаться непонятой, или, что хуже, — осмеянной. Отец всегда был близок ее строю мыслей и вместе с ней разбирался в том, что ее волновало. Почему же она умолчала о Патрике? Почему? Так и не получив ответа на этот вопрос, она все же поняла — разговор с отцом откладывать больше нельзя.
Как бы угадывая ее мысли, Роггльс осторожно сказал:
— Машенька, быть может, тебе трудно, и с Андреем Дмитриевичем мне следует поговорить самому?
Сочувствие Патрика ее задело. Не глядя на него, Маша ответила:
— Я не обижаюсь, Пат, и понимаю — тебе стало меня жалко, и ты хочешь облегчить мне эту задачу. Наверно, так бывает в жизни — однажды увидев человека слабым, теряют навсегда веру в его душевные силы. Спасибо, Пат, с отцом я поговорю сама.
Машенька решительно поднялась с дивана. И хоть дров в печи было совершенно достаточно, Патрик сказал:
— Я, Машенька, принесу дров, — и вышел из дома.
Когда он через некоторое время вернулся с небольшой охапкой поленьев, Машенька, строгая и подтянутая, сидела в кресле. Укладывая дрова в печь, он встал около Машеньки на колени. Она притянула к себе голову Патрика и, закрыв, глаза, поцеловала его в губы, еще пахнущие морозной свежестью, горьковатым дымком бересты и каким-то едва уловимым, тонким запахом неизвестных духов.
16
СМЕРТЬ ГОНЗАЛЕСА
Рано утром Никитин и Гаев выехали по намеченному маршруту на поиски следа машины «Олимпия».
Поиск на проселочных дорогах не дал никаких результатов. Прошлой ночью выпал снежок, вчера в полдень потеплело, по свежему насту прошло несколько грузовых машин и десятки санных упряжек. Возможно, что выпавший снег и новые следы забили старую колею «Олимпии», а быть может, кружили они вокруг да около, а на след так и не напали.
До Апрелевки было семь километров, до Москвы тридцать с лишним. Решили повернуть на Апрелевку и связаться по телефону с полковником Кашириным.
Не доезжая до Апрелевки, Никитин остановил машину, вылез на шоссе и неторопливо зашагал по обочине — он называл такие прогулки «дорогой размышления». Зная, что у Никитина вошло в привычку таким образом обдумывать и решать сложные вопросы оперативной работы, Гаев терпеливо ждал его в машине.
Действительно, вскоре майор вернулся к машине и сказал водителю:
— У тебя, Доронин, ноги не затекли за баранкой?
— Ладно, товарищ майор, пойду разомнусь, — понимающе ответил шофер и скрылся в подлеске подле шоссе.
— Выпало звено, — начал Никитин, обращаясь к Гаеву. — Версия построена, а целое звено выпало! Где водитель «Олимпии» взял это трофейное барахло?
— Строго говоря, Степан Федорович, из нашей версии выпало не одно звено, а несколько, — заметил Гаев.
— Например?
— Мы не знаем, куда водитель отвез Гонзалеса, не знаем, почему он вернулся один, без коммерсанта, и, наконец, не знаем, был ли вообще в машине Гонзалес или кто-то другой.
— За то, что в машине был Гонзалес, говорит ряд фактов: в брошенной машине мы нашли сигарету «Фатум». Эти же сигареты обнаружены при описи личных вещей коммерсанта…
— Прости, Степан Федорович, — перебил его Гаев, — но ведь некоторое отношение к сигаретам «Фатум» имеет и Уильям Эдмонсон. Вспомни случай в Большом театре, визит журналиста к Гонзалесу за посылкой, затем его четырехдневное отсутствие, жирное пятно на пальто, запах бензина…
— Для криминалиста этих улик было бы достаточно. Но я думаю, что история Гонзалеса имеет политическую подкладку, а в таких вопросах «рыцари плаща и кинжала» осторожны, они не будут оставлять грубых улик, достойных разве что начинающего уголовника. Кроме того, мы не знаем главного — что случилось с младшим компаньоном фирмы «Гондурас Фрут компани». Мы вот с тобой ищем след машины, предполагая, что это имеет какое-то отношение к Гонзалесу. А, быть может, он уже вернулся с «охоты» в гостиницу и возмущен нашим вмешательством в его личное дело. И все-таки я уверен, что коммерсант Мехия Гонзалес был в этой машине по другой, более веской причине: мы знаем, что коммерсант выехал по Киевской дороге и что машину «Олимпия», заметая следы, водитель перегнал с Киевского шоссе на Звенигородское. Я твердо придерживаюсь этой версии. Вот если бы удалось выяснить, где водитель взял эту машину, мы бы значительно продвинулись вперед. Как думаешь, Гаев, а?
— Я думаю, что все машины иностранных марок, в том числе и трофейные, оформлялись в ГАИ[8] только после справки об уплате таможенной пошлины. Конечно, эта «Олимпия» переменила уже не одного хозяина, но… Подвези меня до электрички, я поеду в Москву, посоветуюсь с товарищами из ГАИ. Думаю, они мне подскажут, где нужно искать хозяина.
— Хорошо, — согласился Никитин и посигналил шоферу.
Высадив капитана Гаева около платформы электрической железной дороги, Никитин заехал на Апрелевский завод грампластинок и из кабинета коммерческого директора связался с Москвой.
Дежурный сообщил ему, что полковника Каширина нет, а у железнодорожного переезда в Апрелевке его, Никитина, ждет сотрудник райотдела.
Понимая, что за время его отсутствия произошли какие-то важные события, он поблагодарил секретаря за предоставленную возможность поговорить по телефону и поспешил к машине.
Подле шлагбаума, в будке переездного сторожа, Никитина дожидался младший лейтенант из райотдела.
— Приказано, товарищ майор, доставить вас в Глуховский лес. Без проводника вы сами не доберетесь, — доложил младший лейтенант и занял место рядом с шофером. Указав направление, он повернулся к Никитину и добавил:
— Товарищ майор, до темна осталось час сорок минут, а впереди пятьдесят километров по шоссе и пятнадцать плохой, проселочной дороги…
— Понимаю, — перебил его Никитин и распорядился, — Доронин, с ветерком!
В гараже Мишу Доронина звали Ветерком не потому, что он был ветреным человеком, а потому, что любил езду «с ветерком», километров восемьдесят в час, а то и больше. Ветерок дал газ, и стрелка спидометра, подскочив к цифре шестьдесят, начала быстро забирать вправо. Семьдесят… Восемьдесят… Девяносто…
Минут через тридцать такой езды младший лейтенант предупредил водителя:
— Сбавь газ, скоро поворот на проселок.
Доронин уменьшил скорость. Миновав небольшой поселок, свернули направо, за огороды. Здесь несколько километров было относительно неплохой, наезженной дороги, затем они въехали в глухой, старый смешанный лес. Их обступили сосны и ели под большими шапками снега, белые березы в сверкающих уборах. Узкую дорогу перебегали корневища, небольшие увалы, овражки. Многочисленные свежие следы автомобилей свидетельствовали о том, что в этом направлении незадолго до них проехало несколько машин разных марок.