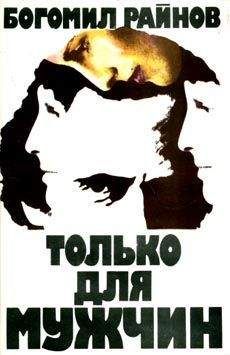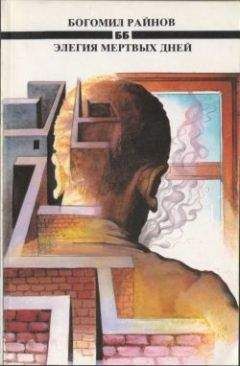Богомил Райнов - Тайфуны с ласковыми именами
«Пятая» — длинный переулок, берущий начало от Бубенберга, достаточно далекий, чтобы по пути можно было убедиться, что за мной нет слежки, и достаточно близкий, чтобы не переутомляться от излишней ходьбы. Я без труда нахожу «вольво», неприметное среди множества других машин. Отпираю дверцу, сажусь за руль и трогаюсь. А во время стоянки перед красным светофором извлекаю из-под приемника оставленное для меня послание и кладу на его место свое. Операция длится ровно восемь секунд.
Однако, чтобы освободиться от машины, мне приходится потратить гораздо больше времени. И не только потому, что «шестая» находится довольно далеко от «пятой», но и в силу того, что мне так и не удается найти место для парковки. Это вынуждает меня в соответствии с договоренностью отогнать машину на «седьмую», где обычно бывает свободней. Прозаические, способные навеять тоску детали осуществляемой ныне операции, получившей условное наименование «Дельта».
Подчас простейшая комбинация предпочтительней любой другой. Но когда слишком упрощенная схема сулит провал, приходится прибегать к более сложной. Когда атака двух «Б» — Боева и Белева — потерпела неудачу, возникла необходимость подготовить атаку трех «Б» — Боева, Бояна и Борислава. В сущности, эти три элемента и образуют треугольник, который в греческой азбуке получил наименование «Дельта». Мне предстоит поддерживать контакт с противником, Бориславу — с Центром, а Бояну — между мною и Бориславом. В случае если одно из звеньев — Боян или Борислав — сгорит, треугольник должен быть восстановлен за счет подключения нового действующего лица. Если же случится сгореть мне, то на операции «Дельта» вполне можно будет поставить крест. По крайней мере до новых указаний.
Возвращаюсь на Беренплац, где стоит моя собственная машина. Довольно иметь дело с тайниками. Пора возвращаться на легальное положение скучного и ничем не примечательного гражданина Пьера Лорана.
Пока я шарю в кармане, чтобы найти ключи, открывается дверь, и на пороге показывается Розмари, лишний раз демонстрируя свою способность перевоплощаться — одетая строго, хотя и не без шику, она теперь кажется этакой наивной и миловидной маменькиной дочкой.
— Ах, вы уходите? И в канун уик-энда оставляете меня одного? — восклицаю я с легкой горечью, хотя, честно говоря, в данный момент мне ужасно хочется, чтобы она убралась куда-нибудь и не мозолила мне глаза.
— Мне очень жаль, Пьер, но наш сосед герр Гораноф пригласил меня на чашку чая. Постарайтесь умерить свою скорбь. Гораноф принадлежит к числу людей, которые после двух партий белота начинают зевать, так что едва ли вам придется долго скучать без меня.
Окрыленный этим обещанием, я вхожу в свое скромное жилище, ставлю на плиту чайник, а затем поднимаюсь в библиотеку и читаю послание. Это ответ на мой запрос относительно Макса Бруннера. Ответ весьма краткий, но, чтобы составить его, видимо, потребовалось провести целое исследование.
Теперь мне известно, что Бруннер закончил курс экономических наук, войну провел — вероятно, благодаря определенным связям — в интендантских частях, сравнительно безбедно, в звании обер-лейтенанта. После войны обосновался — опять же не без связей — на поприще торговли. В военных преступлениях не замешан, в каких-либо политических выступлениях активного участия не принимает.
Словом, весьма безынтересные сведения, кроме одного-единственного пункта: в 1943—1944 годах интендантская часть, в которой служил Макс Бруннер, находилась в Болгарии. Пункт, над которым стоит поразмыслить. Особенно если предположить, что Флора, за которой скрывается Бруннер, оказалась соседкой болгарина Горанова не по чистой случайности, а по каким-то соображениям.
Бруннер — Флора — Горанов — это уже некие штрихи изначальной схемы. Как бы разновидность «Дельты», с той разницей, что здесь одно звено, возможно, охотится за другим через посредство третьего. Но при всей своей привлекательности эта наметившаяся схема пока лишена реального, конкретного смысла. Даже если такой смысл и существует, никто, кроме самой Флоры или самого Бруннера, раскрыть мне его не в состоянии. Но я не знаю, удобно ли, прилично ли будет явиться к кому-нибудь из них и спросить: «Скажите прямо, какого вам черта нужно от этого старика Горанова?»
Я иду в ванную, сжигаю над раковиной письмо и мою раковину намыленной щеткой — при такой любопытной квартирантке, как Розмари, лучше не оставлять следов. Затем, в спальне, я сквозь щелку между шторами наблюдаю, как моя квартирантка режется в карты с этими подозрительными типами, Горановым и Пеневым, как они одаряют ее милыми улыбками и наперебой угощают чаем, конфетами и печеньем.
В конце концов мне надоело созерцать эту сердцещипательную идиллию, и я спохватываюсь — чайник на плите, должно быть, уже закипел. Спустившись в кухню, завариваю чай и достаю кое-что из холодильника. Довольно постный ужин в канун уик-энда и довольно убогая схема для построения определенной гипотезы: Бруннер — Флора — Горанов.
Затем, в зеленом оазисе холла, я дремлю в мягком кресле, прислушиваясь к звонкому пению капели, оповещающей меня в этот голубой вечер, что наконец идет весна.
Да, наконец-то идет весна, и Розмари наконец-то возвращается домой.
— Как мило с вашей стороны дождаться моего прихода! — щебечет она, едва переступив порог. — Эти жалкие люди совсем уморили меня.
— Ничего удивительного, — отвечаю я. — Можно только гадать, во имя чего вы подвергаете себя такой пытке. Мало сказать охотно — с восторгом.
— Какой вы скверный, — тихо роняет она, опускаясь на диван. — Еще немного, и вы уличите меня в мазохизме.
— Почему бы и нет? Извращения становятся сейчас чем-то вроде нормы.
— Но если я не в силах ответить отказом, когда пожилой человек приглашает меня на чашку чая?
По моим личным наблюдениям, чтобы удостоиться этой чашки чая, Розмари на протяжении долгих недель приставала к пожилому человеку: строила глазки и при каждом удобном случае останавливалась у его садовой ограды, чтобы поболтать о том о сем. Но стоит ли придавать значение таким пустякам?
Быть может, не стоит придавать значение и тому обстоятельству, что, вырядившись в коротенькую юбку, сейчас эта маменькина дочка так бесцеремонно закинула ногу на ногу, что моему взгляду представилась поистине живописная картинка — ее стройные бедра обнажились вплоть до того места, где природе было угодно их соединить. И вообще в последнее время Розмари ведет себя дома, мягко говоря, непринужденно выходит при мне в холл в одной комбинации, почти голая, чтобы сказать мне какую-нибудь ерунду. Словно я бездушный робот или некое бесполое существо То ли она действительно считает меня до такой степени холодным, то ли надеется проверить, так ли это на самом деле, но ее бесцеремонность уже начинает меня раздражать.
— В свое время вы меня заверяли, что не будете звать гостей, — напоминаю я своей квартирантке.
— О Пьер! Ведь вы же сами…
— Вы заверяли, что вам несвойственно приставать к хозяину, а теперь вот убеждаете меня в обратном.
— О Пьер! Неужели вы считаете…
— Да, считаю. И эта ваша поза говорит о том, что, кроме мазохизма, вам не чужд и садизм…
— О Пьер! — восклицает Розмари в третий раз. — Зря вы пытаетесь выступить в несвойственной вам роли! Не станете же вы отрицать, что я для вас всего лишь собеседница, помогающая вам убить время? Хотя иной раз мне кажется, вы и в собеседнице-то не нуждаетесь.
Она произносит этот небольшой монолог и не подумав сменить позу, не придавая ни малейшего значения тому, куда направлен мой взгляд. Это бесит меня еще больше. Но ей вроде бы все равно, а может, наоборот — она отлично понимает, что к чему, и, словно для того, чтобы совсем уж довести меня, бесстыдно спрашивает:
— Чего вы на меня так смотрите?
— Вас это смущает?
— Во всяком случае, я не хочу, чтобы меня изучали, словно какую-то вещь. И потом, я не могу понять, то ли вы оцениваете качество моих чулок, то ли пытаетесь разобраться в сложностях моей натуры.
Будь я Эмиль Боев, я бы сказал ей такое, что она сразу бы заткнулась. Но так как я не Эмиль Боев, а Пьер Лоран, мне приходится проглотить эту пилюлю, и я спокойно произношу:
— Не воображайте, что ваша натура — непроходимые джунгли.
— Ага! Наконец-то вы ухватились за путеводную нить. Не могу не радоваться — авось и мне она поможет.
— Запросто! Вы только трезво оцените всю сложность собственной натуры…
— Вы как-то не очень ясно выражаетесь.
— Боюсь, как бы вас не задеть.
— А вы не бойтесь. Шагайте прямо по цветнику.
— Зачем же топтать цветы? Вы сами в состоянии разобраться в себе. Вы ведь понимаете природу мимикрии?
— Это и детям ясно.
— Вот именно. Ваши уловки им так же были бы ясны. Только у хамелеона срабатывает инстинкт, а вы действуете строго по расчету. «Сложность» вашей натуры покоится на чистом расчете. И потому вы так ее афишируете. Все эти маски, позы и перевоплощения диктует вам довольно нехитрое счетное устройство, заменяющее вам мозг и сердце.