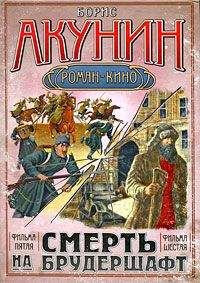Борис Акунин - Смерть на брудершафт (фильма пятая и шестая) [с иллюстрациями] [Странный человек + Гром победы, раздавайся]
Пришли поглазеть, догадался майор. Хорошо бы только без репортеров. У этой сволочи тонкий слух и острый нюх.
На кухне была одна Марья Прокофьевна.
— А, это вы.
Сама смотрит только на Странника, с тревогой и как бы ожиданием.
— Пустое, Марьюшка, — сказал тот. — Поблазнилось что-то. Чайку налей нам, да иди.
Сели.
Марья Прокофьевна, приметил майор, отошла недалеко, ее силуэт виднелся в полутемном коридоре.
Прямо из кухни вела дверь в безоконную каморку для прислуги. Оттуда слышался шепот. Зепп сконцентрировал свой замечательный слух, потоньше чем у любого газетного нюхача.
— Кто это, белобрысай-то, а? — спросил голосок — кажется, старушечий.
— Купец богатый. Часто к нам ходит. Тихо ты! Не то выгоню.
Странник подвинул сухарницу.
— На-ко вот, посластись. Тебе можно.
Сунул пряник. Зепп бережно завернул его в платок.
— Из ваших рук — на память сберегу… Я вот думаю, не мало ли денег дал? Возьмите все, какие есть! Мне не нужно.
— Добрая ты душа, Емеля. Голубиное сердце. — Бумажки Григорий придавил сухарницей. — Среди мужеска пола таких редко встретишь. Подле меня все больше бабье трется. Потому баба сердцем живет, а мужчина горд и оттого глуп.
Говорил он сегодня не так, как всегда. Медленнее, растягивая звуки. Сам вроде как к чему-то прислушивался.
Припомнил что-то, хихикнул.
— Был я это раз в Селе, у папы с мамой…
Прервался, громко отхлебнул из блюдца.
Старушонка в каморке громко прошептала:
— Чегось? К родителям своим, стало быть, в село ездили?
— Дура ты, — ответили приблудной. — В Царское Село, к царю с царицей. Тс-с-с!
Странник с удовольствием продолжил:
— Он, папа-то, меня спрашиват: «Как мне с Думой быть? Разгонять ли, нет ли? Так-то обрыдли!» Ну я как кулаком по столу тресну. Мама чуть не в омморок, папа за сердце ухватилси. Я ему: «Что щас шевельнулось-то, голова али сердце?» Он: «Сердце». «То-то, — говорю. — Его и слушай». Призадумалси папа…
Вдруг он запнулся, закрыл глаза, рванул на груди шелковую рубаху и протянул-пропел изменившимся голосом:
— Марья-a! Марьюшка-а! Томно мне… Вещать буду…
А та уже готова.
Выбежала из коридора, кинула Зеппу: «Матрас!»
Он понял — разложил на полу матрас, что лежал в углу. Марья Прокофьевна взяла подушку с бечевками, привязала Страннику к затылку.
Григорий закатывал глаза, шевелил губами, пальцы бегали по телу, словно что-то с себя сбрасывали.
— Кладем! — велела экономка.
— Подушка зачем? — шепотом спросил Зепп.
— Чтоб голову не расшиб.
Больной дал уложить себя на мягкое. Этот припадок выглядел иначе, чем давешний, в салоне у Верейской. Тогда судороги скорей напоминали приступ эпилепсии. Ныне же Странник не хрипел, не дергался.
Марья Прокофьевна зачем-то достала из кармана передника маленькую книжечку с карандашом.
В коридоре теснились люди, заглядывали друг другу через плечи. Многие крестились. Но в кухню никто не лез, и было очень тихо.
— Лечу-у-у, — тонко пропел «странный человек». — Ай, бедныя… Что кровушки-то, слёз-то… Ночь длинная, непросветная… Не грызитеся, не кусайтеся! Черт вас друг на дружку науськиват! По рогам ему, по рогам! Эх вы, глупыя… Пропадете…
Карандаш Марии застрочил по бумаге, она записывала.
По лицу припадочного потекли слезы.
— Пуститя! — жалобно попросил он. — Что я вам сделал? Ой, нутро жжет! Иуда ты, Иуда! С рук ел, а сам… Ай, больно! Больно! Больно!!!
Это слово он повторил трижды. Первый раз схватился за один бок, потом за другой, третий раз за лоб. На минуту затих и лежал, будто мертвый. Зепп с беспокойством оглянулся на Марию, та приложила палец к губам.
Глаза Странника распахнулись. В них застыл беспредельный ужас.
— Вода черная! Холод! Всё теперя! Трижды умертвили!
Вот теперь его начало бить и корчить. Он весь изогнулся, съехал с матраса. Раздались тупые удары — это подушка стучала об пол.
Из коридора донеслись взвизги и причитания.
— Теперь держите его за плечи! Крепче!
Марья Прокофьевна достала из шкафчика стакан с приготовленным лекарством и очень ловко влила содержимое больному в разинутый рот.
Он послушно сглотнул и почти сразу обмяк.
— Уходите! Все! — приказала экономка.
Коридор опустел.
Она перечитывала записанное, хмурила брови. Странник лежал без чувств, тихо постанывая.
— Давно вы с ним?
Теофельс с любопытством рассматривал не совсем понятную женщину.
— Что? …Давно.
Говорить ей про это не хотелось.
— А вы, простите, кто? — не отставал Зепп. — Я ведь вижу, вы не похожи на остальных.
— Я Мария. — Она печально смотрела на лежащего. — Магдалина.
— Понятно…
Это очень часто бывает: с виду человек психически нормален, а чуть копнешь… Ну, Магдалина так Магдалина.
По имевшимся у майора сведениям, после приступа своей странной болезни Григорий становился благостен и мягок, как воск.
— Скоро он очнется?
— Сейчас…
Серые, ярко блестящие глаза действительно скоро открылись. Они смотрели на потолок спокойно, будто никакого припадка не было.
— Надо свежего воздуха. — Зепп поднялся. — И посадим его ближе к окну.
Так и сделали.
Укутанный в плед, Странник медленно отхлебывал чай, слабо улыбался.
— Ну, Марьюшка, что я нынче вещал? Зачти.
Она молчала.
— Ладно, после, — беспечно молвил он. — У меня, Емеля, разные виденья бывают. Малые и большие. Сонные и явные. Какие понятные, а какие и нет. А еще зеркал видеть не могу. У меня в дому ни одного нету. Глядеть в них мне нельзя. Проваливаюсь. Как в пролубь. — Он передернулся, но тут же снова заулыбался.
Все-таки это что-то эпилептическое, предположил Зепп. С типичной эйфорической релаксацией после приступа.
— Две силы во мне, мил человек. Бесовская и Божья. По все дни бесенок поверху семенит, такое уж это племя. Но как молонья Божья полыхнет да гром грянет, тут он в щель. Тогда вещаю голосом ангельским. А отгремит гром, отсияет радуга, и снова лезет лукавый, снова евоный праздник. Ишь, зашевелился запрыгал. — Он засмеялся, постучал себя по груди. — Вина, плясок просит.
Нуте-с, приступим…
— Отче, все хочу спросить, — сказал Зепп, стоя у окна. — Почему возле вашего дома столько людей, похожих на переодетых полицейских?
— Они самые и есть. Из Охранного. Мама за меня опасается. Многие моей погибели жалают. Убивали меня уже. Но меня просто не возьмешь. Само-меньше три смерти надо.
Теофельс заметил, как Марья вздрогнула и спрятала записную книжку в карман.
— Гадко сегодня на улице, — поежился Зепп. Промозгло. Раз люди из-за вас стараются, поднести бы им.
Странник охотно согласился.
— Добрая ты душа. А мне и в голову… Снеси-ка им, Марьюшка. Вчера откупщик водки клопиной принес. Я-то ее не пью.
— Не женское дело водку носить. Я сам.
Зепп взял у экономки поднос с шустовским коньяком, стаканчиками, печеньем.
Выходя, слышал, как Григорий сказал:
— Мильонщик, а сердцем прост.
Нет, не прост!
Когда Зепп вернулся, Странник, свежий и розовый, будто после парилки, сидел у стола и с аппетитом ел.
— Садись, Емеля. Штей покушай. Хороши!
— Что-то не так, — озабоченно сказал Теофельс. — На лестнице и в подворотне точно агенты Охранки. Но на крыше еще какие-то. Двое. Я спрашиваю: ваши? А охранные говорят: нет, это из контрразведки. С утра засели.
— С контрразведки? От Жуковского-енарала? — Странник выронил ложку. — Где?
— А вон. Я их еще раньше из окна углядел.
На крыше соседнего дома, возле трубы, лежали двое в брезентовых плащах с капюшонами.
— Чего это они? — Григорий испуганно почесал бороду. — Что я им, немец что ли? Шпиён? …Ты что?!
Это Зепп схватил его за плечи, оттащил.
— У них там футляр какой-то. Длинный. Вы вот что… К окну больше не подходите, ясно? Тут шагов тридцать, не промахнешься.
— Господи, Твоя воля, — закрестился Странник.
— Боюсь я за вас, отец. Врагов у вас много. Если сам Жуковский решит вас извести, не убережетесь.
Всхлипнул Григорий, пожаловался:
— Как кость я им в горле. Чего терзают, за что ненавидят? Вот я на енарала маме пожалуюся… Мне б только в Царское попасть. И малóй хворает… Сердцем чую, плохо ребятенку. А скоро вовсе худо станет.
— Мало пожаловаться. Надо сказать царице, что вы не станете лечить цесаревича, пока не уволят вашего врага Жуковского.
Странник удивился:
— Ты что говоришь-то? Грех какой. Тьфу на тебя.
Но Зепп все так же напористо объявил:
— Вы как хотите, отче, а я от вас теперь ни на шаг не отойду. Тут стану жить, вас оберегать. Мне много не надо, вон на матрасе пристроюсь. Но уж и вы пока сидите дома. Никуда не ходите.
![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (фильма пятая и шестая) [Странный человек + Гром победы, раздавайся]](/uploads/posts/books/243721/243721.jpg)