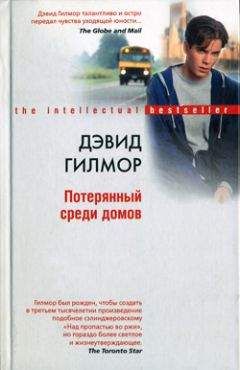Джон Ле Карре - Идеальный шпион
Он жил странной жизнью эти первые месяцы в Вене, ибо судьба его не была связана с этим городом, и теперь, в минуты, когда разыгрывается воображение, мне кажется, что самой столице хотелось побыстрее отдать его на волю более суровых законов природы. Слишком маленького чина, чтобы коллеги-офицеры могли воспринимать его всерьез, не могущий по протоколу общаться с людьми других рангов, слишком бедный, чтобы наслаждаться ресторанами и ночными клубами наравне с толстосумами, Пим сновал между выделенным ему в отеле номером и своими картами почти так же, как сновал по Берну в пору своего нелегального проживания там. И признаюсь сейчас — но никогда бы не признался тогда, — что, слушая, как венцы болтают на тротуаре на своем шутовском немецком, или отправляясь в один из театриков, с трудом встававших на ноги в каком-нибудь погребе или разбомбленном доме, он мечтал о том, чтобы, повернув голову, вдруг обнаружить рядом доброго, прихрамывающего друга. Но у него же не было таких друзей. Это просто оживает немецкая половина моей души, говорил он себе, присущая немцам потребность чувствовать кого-то рядом. Случалось, вечерами наш великий тайный агент отправлялся на разведку в Советский сектор, надев для маскировки зеленую тирольскую шляпу, которую он специально купил для этой цели. Из-под ее полей он разглядывал коренастых русских часовых с автоматами, расставленных через каждые десять метров на улице, где находился штаб советских войск. Если они останавливали Пима, ему достаточно было показать свой военный пропуск, и их по-татарски широкоскулые лица расплывались в дружеской улыбке, они отступали на шаг в своих кожаных сапогах и отдавали честь рукой в серой перчатке.
— Англия — хорошо.
— Но русские тоже хорошие, — с улыбкой утверждал Пим. — Русские очень хорошие, честное слово.
— Камарад!
— Товарищ. Камарад, — отвечал великий интернационалист.
Он предлагал сигарету и брал сам. Подносил к обеим свою американскую зажигалку «Зиппо» с высоким пламенем, добытую у одного из многочисленных подпольных торговцев, промышляющих в Д.Р. Пламя освещало лицо часового и его собственное. И у Пима по широте его натуры возникало желание — по счастью, этому мешало незнание языка — пояснить, что, хоть он и шпионил за коммунистами в Оксфорде и снова шпионит за ними в Вене, в душе он коммунист и ему дороже снега и пшеничные поля России, чем коктейль-бары с музыкой и колеса рулеток в Эскоте.
А порой, возвращаясь очень поздно по пустынным площадям в свою крошечную, как келья, спальню с армейским огнетушителем и фотографией Рика, он останавливался и, наглотавшись до опьянения свежего ночного воздуха, смотрел вдоль подернутых туманом мощеных улиц, и ему казалось, что он видит, как к нему идет освещенная фонарями Липси в платочке, какие носили перемещенные лица, со своим картонным чемоданом в руке. И он улыбался ей и поздравлял себя с тем, что, каковы бы ни были его устремления, он все еще живет в мире, созданном его воображением.
Он находился в Вене три месяца, когда Марлена попросила у него защиты. Марлена была чешской переводчицей и известной красоткой.
— Вы есть мистер Пим? — спросила она как-то вечером с прелестной застенчивостью, свойственной гражданским лицам, когда он спускался по главной лестнице позади офицеров высокого ранга. На ней был мешковатый макинтош, стянутый на талии, и шляпка с маленькими рожками.
Пим признался, что это — он.
— Вы идете в отель «Вайхзель»?
Пим сказал, что каждый вечер проделывает этот путь.
— Вы позволите, пожалуйста, я пойду с вами, один раз? Вчера один мужчина пытался меня изнасиловать. Вы проводите меня до моей двери? Я не затрудняю?
Вскоре неустрашимый Пим провожал Марлену каждый вечер. А по утрам заходил за ней. Его день протекал между этими двумя озаренными ярким светом интермедиями. Но когда он пригласил ее после выплатного дня поужинать с ним, его вызвал к себе взбешенный капитан стрелковой роты, отвечавший за вновь поступивших.
— Распутная ты свинья, вот ты кто, ты меня слышишь?
— Да, сэр.
— Младшие чины Дивразведки не вступают — повторяю: не вступают публично в тесные отношения с гражданским персоналом. Во всяком случае, для этого надо послужить подольше, чем ты. Ты меня слышишь?
— Да, сэр.
— Знаешь, что такое дерьмо?
— Да, сэр.
— Нет, не знаешь. Дерьмо, Пим, это офицер, у которого галстук светлее рубашки. Ты недавно смотрел на свой галстук?
— Да, сэр.
— А на рубашку смотрел?
— Да, сэр.
— Сравни их, Пим. И потом спроси себя, какой из тебя офицер. Эта женщина не имеет даже допуска выше «для ограниченного пользования».
«Это все входит в тренировку, — подумал Пим, меняя галстук. — Меня закаляют для оперативной работы». Тем не менее его встревожило то, что Марлена так усиленно лезла к нему в душу, и он пожалел, что так откровенно ей отвечал.
Вскоре после этого Пим был прощен и сочтен достойным приобщиться к деятельности своего заведения. До того как расстаться с Веной, он был снова вызван к капитану, который показал ему две фотографии. На одной был запечатлен хорошенький молодой человек с вялым ртом, на другой — коренастый пьяница с презрительной усмешкой.
— Если увидишь одного из этих людей, немедленно сообщишь об этом старшему офицеру, слышишь?
— А кто они?
— Тебя что же, никто не учил, что нельзя задавать вопросы? Если не найдешь старшего офицера, арестуй их сам.
— Каким образом?
— Используй данную тебе власть. Будь вежлив, но тверд. «Вы оба арестованы». И приведи их к ближайшему старшему офицеру.
Звали их, как через два-три дня выяснил Пим из «Дейли экспресс», Ги Бэрджесс и Дональд Маклин, и они были сотрудниками британского министерства иностранных дел. В течение нескольких недель он всюду высматривал их, но так и не обнаружил, поскольку они к тому времени уже бежали в Москву.
* * *Все-таки кто же из нас ответственен за происходящее, Том, скажи? Почему так получается — виновата ли в том тоскующая душа Пима или своеобразный юмор Господа Бога, — что вслед за пребыванием с Раю в жизни Пима всегда следует Низвержение? Я рассказал тебе про бернских Оллингеров, благодаря которым нам раз в жизни довелось узнать по-настоящему счастливую семью, но я забыл про майора Гаррисона Мембэри, работавшего ранее в британской библиотеке в Найроби и служившего одно время в Учебном корпусе, а затем по прелестному капризу военной логики переведенного в ряды этого сброда — Оперативную безопасность. Я забыл о его красотке жене и многочисленных неряхах дочках, которые могли бы со временем стать похожими на барышень Оллингер, если бы вместо музицирования не занимались козами и неугомонным поросенком, которые устраивали сущий ад для их прислуги к ярости офицера-администратора гарнизона, бессильного что-либо поменять, поскольку Мембэри принадлежали к разведке и были потому неприкасаемы. Я забыл про Группу Оперативного допроса, располагавшуюся в Граце, в розовой барочной вилле № 6, среди поросших лесом холмов, в миле от границ города. Гроздья телефонных проводов вели к ней, островерхую крышу оскверняли антенны. Там были ворота со сторожкой, а когда вы подкатывали ко входу на джипе, официант из столовой по имени Вольфганг, блондин с испуганными глазами, сбегал по ступенькам в своей отутюженной белой куртке и помогал вам выйти. Но главной притягательной силой для Мембэри было там озеро, ибо обожал рыбу и тратил значительную часть подотчетных сумм, выделенных для тайных операций, на разведение редких пород форели. Представьте себе большого добродушного человека с изящными жестами инвалида, начисто лишенного физической силы. Человека с мечтательным благолепным взором и таким же характером. Человека более гражданского, вплоть до пухлых кончиков пальцев, чем Мембэри, мне не приходилось встречать, однако когда я вспоминаю о нем сейчас, то я вижу его среди стрекоз на берегу его любимого озера, как он стоит жарким полднем в полевой военной форме и поношенных замшевых ботинках, подпоясанный тканым ремнем либо под, либо над животом, — таким увидел его Пим, явившись рапортовать о своем прибытии: Мембэри опускал в воду нечто похожее на сачок для ловли креветок, шепотом заклиная мародеров-щук не подходить близко.
— О Господи. Ты, значит, Пим. Ну что ж, очень рад тебе! Видишь ли, я собираюсь прочистить водоросли и драгой пройтись по дну — надо же посмотреть, что у нас там. Как ты считаешь?
— По-моему, это великое дело, сэр, — сказал Пим.
— Очень рад. А ты женат?
— Нет, сэр.
— Великолепно. Значит, по уик-эндам ты будешь свободен.
Мне почему-то кажется, когда я думаю о нем, что у него есть брат, хотя не помню, чтобы я когда-либо об этом слышал. Обслуживавший его штат состоял из сержанта, которого я почти не помню, шофера, кокни по фамилии Кауфманн, дипломированного экономиста из Кембриджа. Заместителем у Мембэри был розовощекий молодой банкир, именовавшийся лейтенантом Маклейрдом, который к тому времени возвращался к себе в Сити. В подвалах виллы покорные австрийские чиновники прослушивали телефоны, вскрывали с помощью пара почту и бросали, не читая, в армейские мусорные контейнеры, которые власти Граца раз в неделю пунктуально опустошали, ибо Мембэри больше всего боялся, как бы какой-нибудь ненавидящий рыб вандал не выбросил содержимое контейнеров в озеро. На первом этаже Мембэри держал отряд переводчиц, набранных из местного населения самых разных возрастов — от матрон до девиц на выданье, и когда вспоминал об их существовании, то всегда всеми восторгался. И наконец, у него была жена Ханна, писавшая деревья, причем, как часто бывает при крупном муже, Ханна была тоненькая, как тростинка. Благодаря ей я полюбил живопись; помню, как она сидела за мольбертом в низковырезанном белом платье, девочки с визгом катались по травяному откосу, а мы с Мембэри в купальных костюмах трудились в бурной воде. Даже сегодня я не в состоянии представить себе, что Ханна была матерью всех этих девочек.