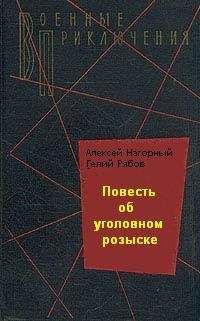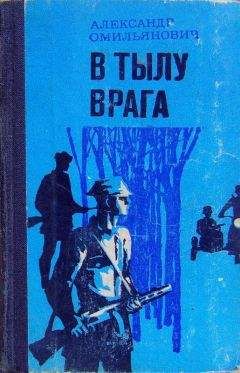Алексей Нагорный - Я — из контрразведки
— Бывший кирасирский офицер. В контрреволюционной деятельности не замечен, выехал вчера из Петрограда в Москву дневным поездом.
— Один?
— У него был попутчик.
— А–га, значит, это они… И в поезде, и на Малой Дмитровке они… Мне звонил начальник уголовного розыска, оба убиты из одного и того же револьвера. О Раабене все?
— Нет. Я тщательно проверил. Такая фамилия встречается в связи с екатеринбургскими событиями 18–го года. Некий Раабен Алексей — преподаватель Академии генштаба (она в тот год находилась в Екатеринбурге), принимал активное участие в подготовке освобождения бывшего царя и его семьи.
— А какое отношение имеет этот Алексей к нашему Раабену?
— Они оба Климентьевичи.
— Братья?
— Думаю, что да. И в связи с этим еще кое–что. Заговор был организован военным контролем так называемой Сибирской армии.
— Что это такое?
— Псевдоним контрразведки. Она себя скомпрометировала зверствами и грабежами. И командующий армией приказал именовать ее впредь военным контролем. Заговор этот лопнул. Комендатура Дома особого назначения его вовремя раскрыла и ликвидировала. В списках участников я нашел своего однокашника по Академии художеств — Крупенский Владимир Александрович. Мы с ним росли вместе.
— Почему вы о нем вспомнили? К делу он вряд ли имеет отношение, слишком опосредствованные связи.
— Вы никогда не интересовались проблемами предчувствия, интуиции?
— Проблемами? По–моему, это из области мистики. Нет?
— Артур Христианович, поштудируйте Фрейда, это австрийский психиатр. Вы читаете по–немецки? Я вам дам.
— И что же Фрейд?
— Принципиально он не отрицает предчувствия. Это сверхподсознание, темные, неконтролируемые глубины мозга. Знаете, говорят иногда: «меня что–то гнетет, я что–то предчувствую».
— Очень понятно объяснил. Спасибо.
— Напрасно улыбаетесь. Я предчувствую…
— Что?
— Свою встречу с Крупенским.
— Ага! — обрадовался Артузов. — Ну, раз так — возьми руководство операцией на себя. Рад, что наши желания совпали.
В дежурной части Марина ожидало сообщение Нахамкеса и Васильева, которые вели наблюдение за Раабеном. Он только что вошел в гостиницу «Боярский двор». Она помещалась совсем рядом с Лубянкой, на Старой площади, возле церкви Грузинской божьей матери. Марин позвонил в комендантский отдел и вызвал к подъезду дежурный наряд для задержания Раабена и второго агента, буде он окажется. Сели в мощный трехтонный «фиат» — единственный грузовик ВЧК, который мог вместить сразу всю команду — двадцать пять человек. Предстояла перестрелка. Опыт свидетельствовал, что белогвардейские эмиссары, как правило, не сдаются без боя. Кроме того, нужно было надежно перекрыть все пути отхода, а для этого, по условиям местности, двадцати пяти человек было, что называется, в обрез. И тем не менее Марин был уверен в успехе. В свое время, когда он учился в Академии художеств, в классе Ефима Ефимовича Волкова, он часто ловил себя на мысли, что вершины профессии все время ускользают от него. Он горячился, проклинал свои не слишком зоркие глаза и не очень умелые руки — так ему казалось. Он свято исповедовал только одну истину: в любом деле надо достигать вершин. Он бесконечно штудировал натуру, ночи напролет просиживал в академической библиотеке, стремясь постичь секреты мастеров Возрождения, голландцев XVII века и новые веяния барбизонцев и импрессионистов. Он выходил из библиотеки с распухшей головой, с красными глазами, перебирал свои этюды и с ужасом думал, что дальше провинциального учителя рисования никогда не двинется. Его работами давно уже восхищались и профессора, и ученики академии, а ему все казалось плохо, слабо. Ефим Ефимович, видя его мучения, говорил: «У вас блистательная рука, мой милый. Вы чувствуете цвет и тон, как никто, и вы однажды подниметесь до высот Рюисдаля или Коро, а может быть, и гораздо выше них».
Несколько дней назад пришло письмо из Петрограда. Бывший однокашник сообщал, что Ефим Ефимович Волков скончался от голода и болезни и похоронен по церковному обряду на болотистом Смоленском кладбище. Мы все уходим понемногу…
…«Фиат» миновал памятник гренадерам Плевны. Сквозь грязные стекла часовни пробивались красноватые отблески лампад. Через минуту остановились у Владимирских ворот Китай–города. Дальше нужно было идти пешком. Марин распределил обязанности, и люди разошлись. Двоих он взял с собой. Один из них — усатый матрос с маузером–раскладкой через плечо вдруг спросил:
— Товарищ Марин, а как вы понимаете те–екущий момент?
Одергивать товарища матроса было совершенно бесполезно. Время митингов еще не прошло. Марин не раз убеждался, что эти митинги начинались подчас в самые неподходящие моменты. Вот и теперь, заберется матрос на подоконник первого этажа в ближайшем доме и заорет, закатывая глаза: «То–о–ва–ри–щи!» И, не задумываясь о том, что крайне важная операция может быть безнадежно провалена, произнесет страстную речь о текущем моменте. Марин не раз говорил об этих странностях становления с руководителями ВЧК. Дзержинский сказал: «Это, конечно, плохо, но у нас в основном работают преданные революции люди, которых мы сами воспитываем. По–моему, здесь нужен такт, выдержка и время. Лишняя романтика уйдет сама по себе, а неорганизованность должны изжить мы с вами. Согласны?» Марин тогда согласился и поэтому теперь не стал отчитывать матроса, а только спросил на ходу:
— А вы как его понимаете, этот текущий момент?
— А я так понимаю, — остановился матрос, поглаживая полированную кобуру маузера. — Что Парижская коммуна погибла только потому, что рабочие французы не создали по нашему образцу карающий орган диктатуры пролетариата. Буржуазию надо было передушить всю поголовно. ЧК им надо было сделать, вот что.
Марин тоже остановился и с интересом посмотрел на собеседника:
— Одной диктатурой удержать власть нельзя, необходим высокий опыт, лучший опыт прошлого, понимаете?
— Ка–ак? — опешил матрос.
— А вот так, — помрачнел Марин. — Учиться нам всем надо, дорогой товарищ, и вам, и мне, и всем остальным. Если перестать учиться, безнадежная отсталость грозит любому человеку, особенно политическому деятелю, вождю, потому что в этом случае он привыкнет повторять одни и те же слова и в конечном счете за этими словами окажется пустота.
— А–га, — кивнул матрос. По его вытаращенным изумленным глазам Марин понял, что семя упало не на благодатную почву.
— Ладно, — сказал матрос, — я в бюре поговорю, чтобы с тобой провели беседу. Я слыхал, что ты оперативник что надо, а вот в смысле политики и текущего момента у тебя в голове труха. И пусть тебе вправят мозги. Это надо же! — он хлопнул себя по ляжкам.
Марин только рукой махнул. Что поделаешь, таков этот пресловутый «текущий момент». Матрос, конечно, предан революции до мозга костей, но он безграмотен, увы… А что же тогда сказать не о тупых, не о безграмотных? О тех, которые рвутся к власти, расталкивая всех вокруг себя локтями, и не только локтями? О тех, кто, достигнув желаемого положения, заняв вожделенный пост, сразу же забывает не только о том, что нужно учиться, учиться и учиться, но и о самых простых заповедях коммуниста и человека, о тех бесконечных карьеристах и проходимцах, которые лезут в правительственную партию, как мухи на мед, и заслуживают только одного — немедленного расстрела?!
Доказательно и четко сказал об этом Ленин…
Впереди со звоном хлопнула огромная стеклянная дверь. Это был вход в гостиницу «Боярский двор». До революции во всех московских справочниках она фигурировала на первом месте как самая дорогая, комфортабельная. Номера заливал электрический свет, в ванных плескалась горячая вода, и стоила эта райская жизнь от двух рублей и выше. Теперь же выбитые стекла в парадном были заменены грязной фанерой, и рукописный плакат извещал всех жаждущих о том, что «местов нет». Поднялись на третий этаж. Старший наряда доложил вполголоса:
— Оне занимают 321–й нумер. Который его снял — Русаков фамилия — никуда не выходил. Второй пришел час назад. По концам коридора и на черной лестнице я поставил людей, а под окнами два человека: мало ли что…
— Хорошо, — одобрил Марин. — Нужно войти в номер. Как это сделать? — Он всегда вовлекал сотрудников в обсуждение творческой стороны любой операции. Это нравилось. Марина за это любили все, кому хоть раз довелось с ним работать.
— Можно, конечно, и вломиться, — старший с сомнением оглядел массивную дверь 321–го номера, — но лучше войти тихо.
— Допустим, — сказал Марин, — вы добудете у портье вторые ключи, станете открывать. Они все равно услышат, откроют стрельбу.
— Верно, — кивнул старший. — Тогда я спущусь вниз и протелефонирую в нумер. Скажу, мол, так и так, техник, мол, с телефонной станции. Проверка, мол, необходимо посмотреть аппарат.

![Алексей Нагорный - Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]](/uploads/posts/books/153335/153335.jpg)