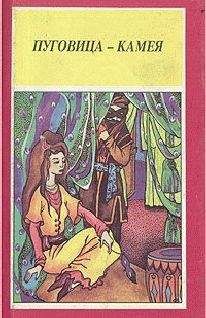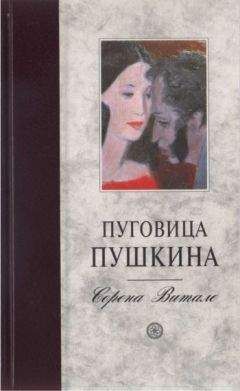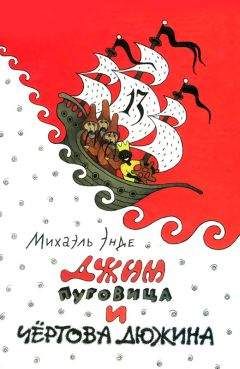Юлиан Семенов - Экспансия – I
— Эй, Ник, свари-ка нам кофе, а!
— Вари сам. Я жду новых сообщений. Как тебе, а? Ты что-нибудь понимаешь?
— А что тут не понять, — ответил Роумэн. — Тут все ясно, как утро. Началась генеральная уборка. В доме должно быть стерильно, как в хирургической. Верно, доктор Брунн? Вы согласны?
— Как в морге, — засмеялся Ник. — Я что-то такого не помню еще в нашей истории. А ты?
— Теперь запомним, — ответил Пол и пошел в маленькую кухню, где стояла электрическая плита.
— Зато я помню, — тихо заметил Штирлиц. — Я очень хорошо помню Сакко и Ванцетти. Когда в стране нет шума, тогда лидеру нечего делать… Тем более война закончена не им, а предшественником. Включайтесь в поиск шпионов, очень поможет карьере.
— Ладно, — ответил Роумэн, — включусь.
Он поставил на конфорку кофейник, насыпал в него две пачки марокканского кофе и подумал, что Штирлиц верно чувствует версию возможного развития событий, мы все шутим по поводу возможного, пока можно шутить, в глубине души думая, что это ужасное возможное на самом-то деле никогда не сможет стать фактом жизни. Мне стало страшно, когда я прочитал телетайп, особенно после того, как он сказал мне, что Криста слушала Кемпа, который стоял рядом с нею, обернувшись вполоборота, и приказно ей говорил, пока она рассматривала Мурильо. Или ты просто-напросто хочешь придраться к этому, чтобы все с ней порвать? — спросил он себя. Ты ведь боишься разницы в возрасте. И боишься того, что ты совсем не подарок в кровати после того, что с тобой вытворяли наци. И ты постоянно вспоминаешь Лайзу, которая лежала с тем мулатом, потная, со спутанными волосами и невидящим, плывучим взглядом. Может быть, ты получил искомое, то есть предлог, чтобы вернуться в прошлое, каким оно было неделю назад, пока Криста не вкатила тебе в бампер. А ведь она замечательно водит машину. После того как я напился от счастья в «Лас Брухас», я подивился, как резко, по-мужски, она ведет машину… Надо же было вмазать мне в задник на полупустой площади… Прямо как по заказу. И еще: она ни разу не спросила меня, чем я занимаюсь. Даже после того, как швейцарец Ауссем назвал меня «господином советником». А ключ от моего сейфа валяется в столе… Я ж помню мудрые уроки Аллена: «Если вы хотите, чтобы к вам не лазали — никогда ничего не прячьте. Оставляйте все самое конфиденциальное на видном месте, противник всегда ищет тайники, такова уж логика».
Он отчего-то вспомнил, как чикагский бизнесмен, занятый в книжной торговле, оказался на грани банкротства и жизнь заставила его придумать гениальный ход: он выпустил роман «Война и мир» умопомрачительным тиражом, предварительно сообщив в газетах, что уплатит десять тысяч премии тому, кто найдет ошибку в книге, ошибку, сделанную намеренно, чтобы проверить внимательность читателей. Книга моментально разошлась, бизнесмен не только поправил свои дела, но и положил в карман сотню тысяч баков горячей прибыли, потому что грамотных много, а особенно тех, кто считает себя грамотным, — все нынче горазды поживиться на дармовщинку. А вот ошибку никто не нашел. Пришли тысячи гневных писем: «Акулы бизнеса дурят американцев». Тогда бизнесмен напечатал в газете: «Никто никого не дурил. На обложке книги в фамилии „Толстой“ вместо „о“ напечатано „а“, „Талстой“; просто никто не смотрел обложку, все ринулись утюжить текст…»
— Эй, Брунн, — крикнул Пол с кухни, — помогите-ка мне! Возьмите чашки, я сварил сказочный кофе.
«Крепкий парень, — подумал Штирлиц. — Так скрутить себя за несколько минут не каждый сможет, а ведь мой удар был в поддых. От такого не каждый быстро оправится. А если он умеет так играть? Тогда я себе не позавидую, тогда я получил в нем такого врага, который на мой удар ответит своим, и это будет сокрушительный удар, что там толчок в лоб, когда летишь со стула на кафель, это ерунда, лечебная гимнастика, а не удар…»
Роумэн — II
Роумэн вошел в квартиру, тихо отперев дверь, и сразу же услышал песенку, ее, Кристы, песенку; она хлопотала на кухне; он это понял по тому, что в доме пахло ванилью, она добавляла много ванили, когда делала яблочный пан.
Он остановился возле косяка, прижался спиной к стене, посмотрел на свое отражение в большом венецианском зеркале, провел по лицу хваткими пальцами; появились красные полосы; плохо, сдали нервы, это началось после того, как посидел у наци, а еще это было, когда он вошел — так же тихо, желая сделать сюрприз Лайзе, — в свою квартиру и увидел ее с тем мулатом; самое дрянное заключается в том, подумал он, что я рассказывал Кристе про эти красные полосы на лице, никто не бывает так доверчив, как мужчина средних лет, полюбивший молодую женщину. Он относится к ней как к ребенку, никаких тайн, это же навсегда, последнее, самое лучшее, что подарил бог под старость.
Роумэн потер ладонями щеки, чтобы они перестали быть полосатыми, пусть покраснеют. Странно, когда пьешь в молодости, делаешься пунцовым, а если перевалило, бледнеешь, как известь. Лучше б и не смотреть на себя после полубутылки виски, страшновато, лицо, как маска…
— Криста! — позвал Роумэн.
— Ау!
— Это я, — он заставил себя говорить громко, весело, все должно быть, как было.
— Мне казалось, что ты придешь позже, — ответила она, выбежав из кухни. — Ты не звонил, и я решила, что у тебя много дел и ты вернешься ночью. А потом я подумала, может быть, я уже надоела тебе и ты утешаешься с другими женщинами.
Она была в коротенькой спортивной юбочке и фартуке, как шоколадница, когда только успела купить? Черные волосы были подвязаны ленточкой, длинные голубые глаза смотрели на него открыто и весело; она обняла его, поднявшись на мыски, покрыла лицо быстрыми поцелуями, пошептала на ухо что-то быстрое и непонятное — это у нее была такая игра — и спросила:
— За что ты на меня сердишься, милый?
— Я сержусь на этот говенный мир, — ответил он. — Я не просто сержусь на него, маленькая, я его ненавижу. Он того заслуживает, ей-богу, не думай, я пока еще не стал брюзгой… В Штатах хотят посадить в тюрьму нескольких немцев… Это самые прекрасные немцы, каких я когда-либо встречал в жизни…
— В чем их обвиняют?
— Их ни в чем нельзя обвинить…
— Тебе это чем-нибудь грозит?
Надо было спросить иначе, подумал Роумэн. Лучше бы она спросила, не могу ли я им помочь. Хотя она спросила как женщина, которая любит; они собственницы куда большие, чем мужчины; счастье в одиночку невозможно, я составная часть ее счастья, значит, вопрос логичен. Другое дело, меня ее вопрос не устраивает, но это уже мое дело, как всегда, я спешу, всегда спешил; свои мнения формулировал безапелляционно: «замечательный парень», «гнусная баба», «милый старик», а знал этих людей два дня от силы. И потом выяснялось, что «замечательный парень» был гнидой, «гнусная баба» оказывалась верным другом, а «милый старик» состоял на учете в клинике для шизофреников — маньяк и садист. Нет, сказал он себе, ее не в чем обвинять, да и вообще, не торопись с обвинением, подумай еще раз, зачем тебе сказал обо всем этом Штирлиц?
Он поцеловал ее в лоб и ответил:
— Нам это ничем не грозит.
— Мне вообще ничего не грозит, — улыбнулась Криста, — я человек самой свободной профессии, место учителя математики как-нибудь найду, но ты очень властолюбивый, тебе будет трудно жить, если у тебя отберут твое дело. Ты очень любишь свое дело, я вижу. Пойдем есть яблочный пай. Приготовить тебе что-нибудь выпить?
— Обязательно. Только перед яблочным паем угости меня макаронами. Я делаюсь страшно прожорливым, когда пью. Значит, не грозит алкоголизм. Те пьют, не закусывая, на голодный желудок; чем больше пьют, тем меньше думают о еде, а я, наоборот, ем в три горла, волчий аппетит.
— Макароны на ночь? — Криста пожала плечами. — Это же вредно.
— А мы их с тобою выпотеем, — усмехнулся Пол и подумал, что он плохо сказал, но Криста засмеялась, весело засмеялась, а она тонкий человек, чувствует все, как мембрана; ну и что, возразил он себе, когда любишь, стараешься пропускать мимо ушей то, что не укладывается в твою схему, не замечать то, что представляется обидным для любимой; говорят, любовь слепа, — неверно, она обостренно зряча, но при этом автоматически исключает из сознания то, что следует отторгнуть, забыть, не увидеть и не услышать.
— Я думала, мне сегодня будет нельзя, — сказала Криста, — но оказывается, можно, наверное, перепутала дни… Сейчас я сделаю макароны, поджарю сало с луком, натру сыра, очень много сыра, а потом положу на сковородку помидоры, если тебе действительно не страшны лукулловы пиршества… Ешь я, как ты, сразу бы стала бочкой, и ты бы меня немедленно прогнал… Счастливый человек, ешь, сколько хочешь, ужасно завидую… Я сделаю виски, да?
— Нет, я выпью «смирнофф». Хочу водки без льда и апельсинового сока, пару глотков совершенно чистой водки.
— Неужели тебе нравится эта гадость?
— Она всем нравится, только некоторые не признаются… Сколько времени ты будешь готовить макароны?